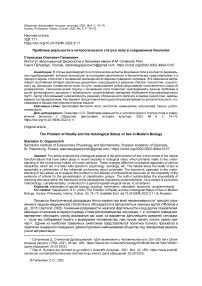Проблема реальности и онтологического статуса пола в современной биологии
Автор: Гапанович Станислав Олегович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются онтологические аспекты феномена пола в контексте радикальных преобразований, которые произошли за последние десятилетия в биологических представлениях и в первую очередь относятся к пониманию эволюционной природы поведения человека. Эти изменения затрагивают понятийный аппарат различных дисциплин, находящихся в широком спектре: психологии, социологии и др. Дискуссия о реальности пола, по сути, представляет собой продолжение тысячелетнего спора об универсалиях. Таксономический подход к пониманию пола позволяет анализировать данную проблему в русле философского дискурса о возможности существования критериев обобщения классификационных групп. Автор обосновывает невозможность решения обозначенного вопроса в рамках идеологем, навязываемых постмодернизмом. Как вариант продуктивной методологии рассматривается дополнительность, понимаемая в общем эпистемологическом смысле.
Философия биологии пола, онтология, номинализм, натурализм, таксон, дополнительность
Короткий адрес: https://sciup.org/149141224
IDR: 149141224 | УДК: 111 | DOI: 10.24158/fik.2022.9.11
Текст научной статьи Проблема реальности и онтологического статуса пола в современной биологии
Санкт-Петербург, Россия, ,
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia, ,
Процессы биологической деградации Homo sapiens при всей неравномерности1 находят отражение в сводках медицинской статистики и обсуждаются в авторитетных научных кругах (Яблоков и др., 2015; Diamond, 2002). Снижение рождаемости, мужской фертильности и ряд других показателей, имеющих отношение в первую очередь к теме воспроизводства популяции, т. е. полового поведения, заставляют обсуждать угрозу вымирания как один из вариантов дальнейшего развития ситуации: «…если мы собираемся писать о вымирании человечества, нам лучше начать писать прямо сей-час»2. Одним из наиболее тревожных симптомов представляется политика полного произвола в практиках гендерного поведения, демонстративно навязываемая обществу под прикрытием квазинаучной аргументации.
Проблематика онтологии пола лежит в русле более общей проблемы реальности таксона, поиски решения которой носят междисциплинарный характер и выходят далеко за рамки собственно биологического дискурса. Понятие «таксон» и таксономическое деление используется везде, где появляется необходимость теоретической классификации и систематизации сложных систем: в географии, геологии, лингвистике, этнологии и пр. Разработка многих представлений теоретической биологии требует применения скорее философского, нежели естественно-научного, методологического багажа (Поздняков, 2007).
Любые определения пола так или иначе будут представлять его как одну из двух основных категорий, мужской или женской, на которые подразделяется большинство живых существ на базе своих репродуктивных функций1. Понятие «пол» подразумевает группу из всех представителей любого пола, а поскольку «группа в классификации, состоящая из дискретных объектов, объединяемых на основании общих свойств и признаков», называется таксоном2, пол можно рассматривать как таксон. При любом способе онтологического определения таксона предусматривается «некое единство относящихся к нему элементарных классификационных единиц» (Павлинов, 2015: 65). Таким образом, к понятию пола могут быть отнесены рефлексии относительно «определения способа бытия таксона как одной из наиболее фундаментальных проблем таксономии» (Зуев, Розова, 2003), известную в биологической систематике как проблема вида.
Пришедшее в систематику из схоластики понятие вида является одним из ключевых в биологии, при этом оно, «как и всякое фундаментальное обобщение, не имеет четко очерченной формулы» (Павлинов, 2007). Номиналистический подход, предполагающий отрицание реальности объективной таксономической расчлененности природы, предлагает рассматривать такое разделение как условность. Безуспешные попытки разработать непротиворечивую таксономическую систему, опирающуюся на всем очевидные «естественные» критерии систематизации, т. е. «обнаружить таксоны в природе», и привели в конечном счете к постановке проблемы реальности таксонов. В такой ситуации теряет смысл обсуждение вопросов о реальности высших таксонов, закономерности их исторического развития и т. п. (Черных, 1986: 19). Накопившиеся к концу ХХ в. в систематике проблемы угрожали разрушить таксономическую теорию как таковую, хотя очевидно, что «сражаться с типологией в биологической систематике – это все равно, что рубить сук, на котором систематики сидят»3. В качестве одного из вариантов выхода из теоретического тупика можно использовать эйдологию («общую теорию вида» К.М. Завадского), которая «должна рассматривать вид всесторонне, в том числе и такие его черты, которые недоступны или не нужны для систематики» (Васильева, 2002).
Отдаленные последствия дискуссий о реальности таксонов, их онтологическом статусе и модусах существования нашли неожиданное отражение в так называемой гендерной философии, получившей бурное развитие с начала 90-х гг. ХХ в. В качестве одного из базовых принципов «гендерных исследований» декларируется отрицание реальности пола. Идея такого отрицания опирается отнюдь не только на нерешенность проблем биологической таксономии, но и на некоторые представления, заимствованные из других наук. Например, из психологии, где на протяжении длительного времени (до появления понятийного аппарата этологии человека и его развития) гендерная идентичность рассматривалась исключительно как продукт воспитания; или из социологических наук, где был традиционно принят излишне упрощенный взгляд на биологическую обусловленность поведения человека, по сути игнорировавший представления об эволюционном характере развития социального поведения, из чего следовало, что «структура общества намного сложнее структуры популяции животных, микроорганизмов, роботов» (Макаров, 2010: 17).
Гендер можно рассматривать в качестве одной из онтологических проекций пола (Богатова, 2016), и в этом качестве гендер закономерно оказывается погружен в соответствующую таксономическую проблематику: гендерная таксономия представляет собой классификацию диапазона различных уровней, на которых люди различаются по половым признакам (Blanchard, 1989). При этом доминирующий в гендерных исследованиях подход (который с определенной долей условности можно обозначить как постмодернистский) отрицает природную обусловленность признаков пола, оправдывая такую позицию их искусственной сконструированностью в рамках «эссенциалистских» теорий и т. п. Эссенциализм объявляется объектом непримиримой критики «в современной феминистской теории… для постмодернистски ориентированных авторов. <…> В гендерных исследованиях основными оппонентами эссенциализма являются кон- структивисты, которые считают пол и связанные с ним явления, например такие как сексуальность, продуктом истории»1. Отрицание реальности признаков и явлений возвращает нас к средневековому спору реалистов и номиналистов. Термин «эссенциализм», собственно, и был введен К. Поппером «в противоположность “номинализму”, чтобы заменить многозначное слово “ре-ализм»»2. Критика эссенциализма сводится к выражению позиций крайнего номинализма, зачастую представляя собой «философские декларации, авторы которых обычно не подозревают о средневековости своего мышления»3.
По мнению В.А. Козьмина, «в методологии познания постмодернизм выступил против дотоле используемых методик… подвергнув сомнению позитивистскую веру в объективность гуманитарного знания, заявляя, что оно не столько отражает объективную картину мира человека, сколько конструирует ее»4. Если ранее, в «до-постмодернистскую» эпоху, научная методология исследования объекта, как правило, подразумевала описание признаков для последующего анализа и классификации, то теперь любые признаки допустимо рассматривать как произвольно сконструи-рованные5. Для «постмодернистски ориентированных авторов»6 эссенциализм является маркером несовременности или даже отсталости. «Гендерная методология в истории позволяет аргументированно опровергнуть эссенциализм – идею о том, что есть что-то “данное” – Богом, Природой – и потому существовавшее извечно и не могущее быть измененным в будущем»7.
С одной стороны, идеи отрицания реальности пола находятся в русле феминистских традиций, представляя собой дальнейшее развитие знаменитого лозунга Ш. Гилман: «Никакого “женского ума” не существует, мозг – не половой орган», категоричность которого была спровоцирована остротой общественно-политических дискуссий конца XIX в. о равноправии полов. Смысл этого лозунга полностью соответствовал уровню развития науки своего времени, когда еще не было ни самой эндокринологии, ни термина «гормоны». С другой стороны, за прошедшие с тех пор почти полтора века без преувеличения стремительное развитие биологических наук неоднократно заставляло радикально пересматривать многие научные положения, когда-то казавшиеся неоспоримыми. Как выяснилось к концу ХХ в., именно мозг является «главным органом», координирующим и направляющим работу желез внутренней секреции, формируя тем самым проявления феномена пола на уровне как физиологии, так и поведения. Согласно популярной метафоре, мозг является «дирижером оркестра» этих желез, его слаженная работа и задает физиологические различия, обусловливающие разницу в поведенческих паттернах мужчин и женщин. Таким образом, то, что когда-то было отчаянно смелым проявлением гражданской позиции, в начале XXI в. уже выглядит демонстрацией откровенного невежества.
Различия в устройстве мозга между полами могут быть обусловлены действием самых разных факторов, от экспрессии генов половых хромосом до последствий лечения матерей в период беременности, сказывающихся на развитии мужского и женского потомства. Это не значит, что мозг мужчин и женщин устроен совершенно по-разному, в действительности большая часть мозга не имеет анатомических и функциональных различий, связанных с полом. Принципиальная разница заключается в действии стероидных гормонов, обусловливающих опосредованную половой принадлежностью специфику управления нейробиологическими механизмами (Cuevas et al., 2016). Существуют значительные гендерные различия в когнитивных и эмоциональных реакциях, относящихся к обучению, памяти, языку, тревожности и т. д. Половая принадлежность также является важнейшим предиктором относительного риска развития ряда нейро-дегенеративных заболеваний, неврологических расстройств и нарушений психического здоровья. Современная медицина вынуждена учитывать убедительные доказательства широко распространенных и устойчивых различий между мужчинами и женщинами как в нормальных состояниях, так и в патологических, несмотря на недостаточную изученность их механизмов.
Таким образом, биологические различия определяют половой диморфизм не только на морфологическом уровне, но и на социокультурном. Между тем в ряде стран целенаправленное игнорирование обусловленных полом различий в психологии в последние десятилетия привело к формированию «сексуально нейтрального» мировоззрения и соответствующей политики, результаты проведения которой сказались на мировоззрении целого поколения, для которого типичным является ощущение диссонанса между внушенными идеологическими установками и собственным опытом реальной жизни (Sex differences…, 2012). Однако гендерный подход мог бы оказать неоценимую пользу – но только в конструктивном взаимодействии с биологией, а не в противостоянии с ней. Например, нежелание признавать различия в поведении и физиологии мужчин и женщин (а до недавнего времени и отсутствие возможности выявлять такие различия по причине недостаточного развития науки) привело к тому, что медицинские рекомендации по лечению подавляющего большинства заболеваний, как правило, формировались на основе испытаний, проведенных на пациентах-мужчинах. Соответственно, выработанные на базе таких исследований рекомендации не могут учитывать специфику женской физиологии и психологии, что только начинает осознаваться как существенная проблема в современной медицине.
Так или иначе, вопрос о реальности «биологических» признаков выводит на передний план «общемировоззренческий вопрос о предзаданности объектов науки научному познанию, ответ на который и дает основу для последующего развития онтологии» (Зуев, Розова, 2003). Использование двух полярно противоположных подходов – натуралистического, реализуемого в русле естественно-научных исследований, и социокультурного, который «оформился внутри философской рефлексии как понимание социокультурной природы познания и его натуралистической организации как исторического продукта» (Зуев, Розова, 2003), традиционно рассматривается как мировоззренческое противостояние. Разногласия двух альтернативных философских концептов – материализма и идеализма – имеют «диаметрально противоположные, взаимоисключающие исходные теоретико-гносеологические основания, компромисс между которыми принципиально недостижим» (Богатова, 2016: 109).
Такая оценка тем не менее представляется излишне категоричной. Взаимная противоположность натуралистического и социокультурного подходов позволяет предположить их дополнительность, тем более что ситуация, связанная с интерпретацией принципа дополнительности (Алексеев, 1975), «имеет далеко идущую аналогию с общими трудностями образования человеческих понятий, возникающими именно из разделения субъекта и объекта» (Бор, 1971: 53). Описание двух взаимоисключающих, но при этом дополнительных друг другу, комплементарных, классов понятий, совокупность которых необходима для воспроизведения целостности объектов, прямо указывает на адекватность применения принципа дополнительности, автор которого, Н. Бор, доказывал его применимость не только в физике, подчеркивая его более широкую методологическую значимость1.
По мнению И.К. Лисеева, применимость композиционистского и редукционистского подходов к одним и тем же биологическим феноменам также является примером отношений дополнительности (2011: 13). Проблемы биологической классификации указывают на «невозможность критерия вида [таксона], который был бы одновременно строго операциональным, биологически содержательным и всеобще применимым… Чем более строго задана концепция вида, тем уже область ее применения; а чем больше в ней биологического содержания, тем менее она операциональна. В основе этого лежит обратное соотношение между строгостью и содержательностью понятия» (Павлинов, 2007). Принцип дополнительности запрещает с одинаковой точностью в одной классификации фиксировать ее параметры, «дополнительные» относительно друг друга. Разумеется, это соотношение «нельзя толковать столь же буквально, как в исходной версии В. Гейзенберга, но в общем эпистемологическом смысле оно вполне адекватно описывает ситуацию» (Павлинов, Любарский, 2011). Применительно к онтологической проблематике пола дополнительность параметров может означать невозможность обязательного наличия полного набора четко выраженных половых признаков при фактической принадлежности к конкретному полу.
Особенно важным представляется то, что принцип дополнительности, понимаемый как универсальный методологический закон, не отрицает точность определения, а лишь указывает на ее необязательную достижимость в каждом случае, в то время как постмодернизм под предлогом борьбы с эссенциализмом отказывается от самой постановки вопроса. Установки крайнего номинализма, по сути, выхолащивают научную методологию, лишая ее конечного смысла, подменяя сравнительное сопоставление эклектическим перечислением не связанных между собой фактов. Тем не менее применение даже полярно противоположных подходов может быть вполне оправданно, если, как говорил А.А. Любищев, «не придавать им монопольного значения» (1982). Гендер и пол являются выражением процессов взаимодействия факторов биологической и социальной детерминации в системе механизмов репродуктивного поведения людей, а противоречивость он-тоэпистемических условий осмысленности феномена пола служит главной причиной формирова- ния и укрепления позиций ошибочной идеологии «плюрализма мнений» в теории и практиках социальной организации человеческой сексуальности. При этом ряд базовых установок, участвующих в формировании подходов к проблематике пола, коренится в уже устаревших либо даже еще донаучных представлениях и противоречит современным биологическим данным.
Список литературы Проблема реальности и онтологического статуса пола в современной биологии
- Алексеев И.С. Принцип дополнительности // Методологические принципы физики. История и современность / отв. ред. Б.М. Кедров, Н.Ф. Овчинников. М., 1975. Гл. VIII.
- Богатова Л.М. Онтологические проекции пола: опыт историко-философской методологии // Парадигма. Философско-культурологический альманах. 2016. № 23. С. 108-126.
- Бор Н. Квантовый постулат и новейшее развитие атомной теории // Избранные научные труды : в 2 т. М., 1971. Т. 2. С. 30-53.
- Васильева Л.Н. Кризис проблемы вида: причины и следствия // Эволюционная биология : в 3 т. / отв. ред. В.Н. Стег-ний. Т. 2. Томск, 2002. С. 31-50.
- Зуев В.В., Розова С.С. Проблема способа бытия таксона в биологической таксономии // Вопросы философии. 2003. № 2. С. 90-103.
- Лисеев И.К. Философия. Биология. Культура. М., 2011. 313 с.
- Любищев А.А. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. М., 1982. 278 с.
- Макаров В.Л. Становится ли человеческое общество стабильнее? // Вопросы философии. 2010. № 8. С. 17-22.
- Павлинов И.Я. Номенклатура в систематике. История, теория, практика. М., 2015. 439 с.
- Павлинов И.Я. Научный плюрализм и проблема вида в биологии // Философский век : альманах. Вып. 33. Карл Линней в России / отв. ред. Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. СПб., 2007. С. 127-133.
- Павлинов И.Я., Любарский Г.Ю. Биологическая систематика: эволюция идей. М., 2011. 667 с.
- Поздняков А.А. Онтологический статус таксонов с традиционной точки зрения // Сборник трудов Зоологического музея Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 2007. Т. 48. С. 261-304.
- Черных В.В. Концепция суммативности высших таксонов // Проблема целостности высших таксонов. Точка зрения палеонтолога. М., 1986. С. 7-12.
- Яблоков А.В., Левченко В.Ф., Керженцев А.С. Очерки биосферологии. Выход есть: переход к управляемой эволюции биосферы // Philosophy and Cosmology. 2015. Т. 14. С. 91-117.
- Blanchard R. The classification and labeling of nonhomosexual gender dysphorias // Archives of Sexual Behavior. 1989. Vol. 18, no. 4. P. 315-334. https://doi.org/10.1007/BF01541951.
- Cuevas K., Calkins S.D., Bell M.A. To Stroop or not to stroop: Sex-related differences in brain-behavior associations during early childhood // Psychophysiology. 2016. Vol. 53, no. 1. P. 30-40. https://doi.org/10.1111/psyp.12464.
- Diamond J. Evolution, consequences and future of plant and animal domestication // Nature. 2002. Vol. 418. P. 700-707. https://doi.org/10.1038/nature01019.
- Sex differences in the brain: The not so inconvenient truth / M.M. McCarthy, A.P. Arnold, G.F. Ball, J.D. Blaustein, G.J. de Vries // Journal of Neuroscience. 2012. Vol. 32, no. 7. P. 2241-2247. https://doi.org/10.1523/JNEUR0SCI.5372-11.2012.