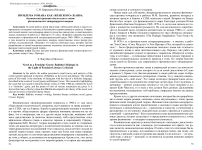Проблема романа как "женского" жанра: бахтинский принцип диалогизма в свете феминистской литературной теории
Автор: Барышева Софья Игоревна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (39), 2016 года.
Бесплатный доступ
В своей работе автор представил небольшой обзор и анализ современного гендерного подхода к бахтинским теориям романа и диалога. Отправной точкой данного исследования является сходство диалогизма с идеей женского языка, описанного в работах Л. Иригарэ и Э. Сиксу. Подробно освещено изучение возникшего в феминистской литературоведческой среде 1960-1980-х гг. вопроса о том, является ли роман «женским» жанром, представлены точки зрения различных исследователей. Показано, что многие ключевые идеи, которые Бахтин разрабатывал в своей концепции романа, оказались актуальными с точки зрения феминистской литературной теории.
Бахтин, женское письмо, феминистcкая литературная теория, роман, жанр, сиксу, иригарэ
Короткий адрес: https://sciup.org/14914582
IDR: 14914582
Текст научной статьи Проблема романа как "женского" жанра: бахтинский принцип диалогизма в свете феминистской литературной теории
Феминистское литературоведение появилось в 1960-х гг. как часть общественно-политического движения, выступавшего за права женщин -как в США, так и в Европе. Борьба за репрезентацию женщин в политике и в прочих общественных сферах обратила внимание активисток на тот факт, что в литературе, как и в других видах искусства, женщины либо мало представлены (в качестве писательниц), либо представлены специфическим образом (лишь в качестве героинь и персонажей). Сформулированная Кейт Миллет1 теория патриархата стала одной из отправных точек для анализа литературы с политической позиции, но именно для литературоведческих исследований этого оказалось недостаточно: исходя из данной теории можно лишь оценить текст как более или менее патриар-хатный, выделить те или иные представления патриархата о женщинах, но на этом, в общем, ее возможности исчерпываются. Кроме того, этот метод фокусируется на мужчинах и их мировоззрении, в то время как женщины 54
снова остаются в основном за кадром.
Новые идеи для собственно литературоведческого анализа феминистская критика почерпнула в работах М.М. Бахтина, развитие интереса к которым прошло в Европе и США несколько стадий. Впервые на Западе Бахтин был открыт для франкоязычного мира благодаря усилиям Юлии Кристевой и Цветана Тодорова в 1960-1970-х гг, когда они связали его теории с концептом интертекстуальности. Но для англоязычного мира Бахтин по большей части оставался неизвестным до начала 1980-х гг, когда Кэрил Эмерсон и Майкл Холквист перевели его труд «Вопросы литературы и эстетики» под названием «The Dialogic Imagination: Four Essays by M.M. Bakhtin»2.
В 1970-х гг. в феминистском литературоведении - а именно, в работах Элен Сиксу «Смех Медузы»3 и Люс Иригарэ «Пол, который не единичен»4 - была сформулирована концепция женского языка как отличного от мужского языка и даже противостоящего ему. Перевод этих работ на английский примерно совпал по времени с переводом «Вопросов литературы и эстетики» - и очевидные пересечения в используемых терминах и опорных концептуальных моментах привели к тому, что теория Бахтина стала одной из базовых для современного феминистского литературоведения.
Бахтин противопоставляет эпике и лирической поэзии с их монологическим словом роман, слово которого по сути своей диалогично («Слово в романе»5). Кроме того, Бахтин развивает в своих работах идею отображения в романе социального разноречия, отмечая, что у каждой социальной группы есть свой язык6. Это также позволило феминистским исследовательницам и исследователям опереться на Бахтина. Если мужчины и женщины - разные социальные группы (а это уже было показано и доказано Кейт Миллет), то и язык у них должен быть разным. Дальнейшие исследования, посвященные этой проблеме, опирались именно на данное предположение.
Кроме того, и другие ключевые оппозиции, которые Бахтин разрабатывал в своей теории романа, оказались очень актуальными с точки зрения феминистской литературной теории. Феминистские критики интерпретировали в гендерном ключе представление о наличии в языке центростремительных и центробежных сил - стремления к единству и стремления к разноречию; по их мнению, мужской язык должен стремиться к единству, а женский - к разноречию7. Была подхвачена и идея высказывания как единицы диалога, которое существует в определенном социальном (а с точки зрения феминизма - в гендерно-социальном) контексте.
Феминистские критики усвоили бахтинскую оппозицию диалогичности и монологичности как ключевую для понимания того факта, что роман является неканоническим жанром. И опять-таки эта оппозиция была, применительно к роману, истолкована в гендерном плане, дав почву для гипотезы о женской сущности романа как жанра. Если монолог - это мужской язык, а диалог - женский, то не является ли роман женским жанром по своей природе?
Множественность и диалогичность по ходу мысли Иригарэ связываются и с женской сексуальностью, и с особым женским языком, в рассуждении о котором она отчасти наследует Лакану.
Сиксу, которая тоже пишет о «множественности женского желания и женского языка» и о том, что «практически вся история литературы базируется на традиции разума» (т.е. монологического дискурса), находит диалогичность, как ни странно, не в прозе, а в поэзии. Для нее именно лирика черпает силы из бессознательного; романистов же Сиксу называет «пособниками представительности». Именно там, в бессознательном, находится «страна, в которой ухитряются выживать гонимые, то есть женщины»10.
Женское письмо должно отринуть автоматизм и уйти на периферию, где нет никакой власти. В этом снова можно проследить определенную смысловую перекличку с Бахтиным и его идеей диалога как оппозиции власти монологизма.
Романное слово Бахтина и «женский язык», о котором говорили и писали феминистские теоретики, в интерпретации феминистской критики могут показаться очень похожими, несмотря на то, что язык романа, каким его описывал Бахтин, не имеет ничего общего с женщинами и женственностью, а «женский язык» совсем не обязательно связан с романом как жанром. Тем не менее, бахтинская теория диалога и «женское письмо» в феминистской теории как будто совпадают по смыслу.
Собственно, тут для самого феминизма возникает вопрос: описывал ли Бахтин «женское письмо» или это «женский язык» сформирован диалогическим словом романа? Против первого предположения говорит тот факт, что Бахтин в «Вопросах литературы и эстетики», прослеживая всю историю романа как жанра с самого начала и вплоть до конца викторианского периода, не пишет даже о «двух с половиной женщин»11 (по выражению Терри Иголтона), которые входили к моменту Первой мировой войны в канон английской литературы. В этой работе Бахтин из женщин-романисток упоминает, и то лишь косвенно, Энн Рэдклифф, мадам де Лафайетт и мадам де Скюдери. Он не принимает во внимание ни Джейн Остин, ни сестер Бронте, ни Джордж Элиот и Жорж Санд, хотя говорит о Филдинге,
Стерне, Диккенсе, Теккерее, Бальзаке, Флобере и даже Тобиасе Смолле-те. Подобное игнорирование женского романа, по мнению феминистской критики, с трудом можно приписать случайности.
Почему так произошло? Либо Бахтин, при всей революционности его идей, в этой области оставался даже более строгим ревнителем канона, чем во всех остальных, и не считал, что женщины способны писать романы, тем более романы, достойные изучения; либо произведения женщин-романисток вписывались в его теорию романного слова настолько хорошо, что не было смысла о них особо упоминать.
Как мы уже отмечали, бахтинские идеи в феминистской концепции вошли в тесное соприкосновение с особыми представлениями о социальных функциях женщины и о способах определения ее сущности. По Бахтину, язык имеет социальную природу, связан с социальным расслоением общества. Теоретики феминизма считают женщин «самым первым» угнетенным классом в обществе. Женщины исключены из доминантного сообщества - причем на базовом уровне и систематически. Вследствие этого исключения и было сформировано особое «женское» искусство. Однако прежде чем говорить о «женском» искусстве, следует вспомнить, что нужно как-то определить, что такое «женщина».
Если не использовать узкое физиологическое определение, которое низводит женщин до их биологии, то в нашем случае лучше принять другую, пост-соссюровскую терминологию, которая представляет женщину через ряд исключений (как это сделано у Ш. Фелман в «Woman and Madness: The Critical Phallacy»12) и показывает состояние «женственности в парадигме западного теоретического дискурса». Этот дискурс работает через оппозиции, репрезентируя женщину как «абсолютного другого» для мужчины, в качестве инаковости как таковой.
В системе этих оппозиций женщина занимает место, аналогичное молчанию в системе речи (речь/молчание; но также присутствие/отсутствие, логика/сумасшествие). Таким образом, либо речь женщин может быть заимствованной мужской речью, либо речь используется каким-то иным способом.
Женский язык должен быть внелогичным, деперсонализированным и обладать многоголосием в противовес мужскому дискурсу. Этот голос исходит из места, которого, по мужскому определению, не существует, избегая иерархичности логического дискурса
Женское письмо постоянно в процессе становления, оно меняется и включает в себя множество голосов, оно всегда находится «где-то еще».
Именно поэтому, с точки зрения феминистской критики, зарождение романа как жанра тесно связано с женщинами. Как отмечал Иен Уотт в «The rise of the Novel», существует связь между увеличением популярности романов и увеличением количества женщин-читательниц13. Он утверждает, что в XVIII в. литература была «в основном женским занятием». У женщин как у группы освободилось время, которое они тратили на чтение, и в первую очередь - романов, а также и на писательство. Другая исследовательница, Джозефин Доннован, в своей работе «Silence is Broken»14 пишет, что роман привлек женщин-авторов потому, что они могли создавать художественные произведения, невзирая на недостаток у себя образования, а также потому, что еще не было правил и канонов, которые диктовали бы им, как писать романы. Уотт предполагает, что «женская чувствительность была в каком-то смысле лучше приспособлена для того, чтобы понять и описать сложности человеческих взаимоотношений и, таким образом, давала преимущество в области романистики»15.
Эта связь женщины и романа как жанра проявлялась также и в соответствии между социальной маргинальностью женщины и маргинальностью самого романа, долго сохранявшейся в истории литературы. Хотя роман достиг вершин популярности в начале XVIII в., он, по мнению многих историков английской литературы (включая того же Иглтона), долгое время не воспринимался критиками всерьез, и в том же XVIII в. всерьез обсуждался вопрос, считать ли роман вообще литературой. Однако к началу XIX в. роман нашел свое признание как литературный жанр, а к XX в. он, как и вся английская литература в целом, «дорос» до статуса предмета, который мужчины стали всерьез изучать. Тем не менее, поэзия все еще обладала более высоким статусом, а если ученые и обращали внимание на роман, то зачастую только для того, чтобы указать на его «подлинное» происхождение. Таким образом, роман в литературной науке долгое время оставался маргинальным жанром, заняв при этом доминирующее положение в литературе.
Является ли роман, в самом деле, женским по своей сути жанром -или же сближение теорий Бахтина о романе и диалоге и теорий «женского языка» обусловлено, в первую очередь, вспыхнувшим интересом к обоим подходам среди феминистских литературоведов? На основе имеющихся данных сложно однозначно ответить на этот вопрос. Тем не менее, сама его постановка позволяет по-новому взглянуть на теории романа и открывает интересные перспективы для дальнейшего исследования.
Список литературы Проблема романа как "женского" жанра: бахтинский принцип диалогизма в свете феминистской литературной теории
- Millett К. Sexual Politics. Chicago, 1970
- Bakhtin M.M. The Dialogic Imagination: Four Essays by M.M. Bakhtin/M. Holquist (eds.). Austin, 1982
- Cixous H. The Laugh of the Medusa//Signs. 1976. Vol. 1. № 4. P. 875-893
- Irigaray L. This Sex Which Is Not One. Ithaca, 1985
- Бахтин М.М. Слово в романе//Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 72-233
- Бахтин М.М. Слово в романе//Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 76
- Бахтин М.М. Слово в романе//Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 84
- Irigaray L. This Sex Which Is Not One//This Sex Which Is Not One. New York, 1985. P. 24
- Irigaray L. This Sex Which Is Not One//This Sex Which Is Not One. New York, 1985. P. 29
- Cixous H. The Laugh of the Medusa//Signs. 1976. Vol. 1. № 4. P. 880
- Eagleton T. Literary Theory: An Introduction. Minneapolis, 1996. P. 28
- Felman S. Woman and Madness: The Critical Phallacy//Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism. 2nd revised ed./R.R. Warhol, D.P. Herndl (eds.). New Brunswick, 1997. P. 7
- Watt I. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding. Los Angeles. 2001. P. 49
- Donovan J. The Silence is Broken//Woman and Language in Literature and Society/S. McConnell-Ginet, R. Borker, N. Furman (eds.). New York, 1980. P. 205-218
- Watt I. The rise of the novel: studies in Defoe, Richardson and Fielding/I. Watt. -Los Angeles: University of California Press. 2001. P. 298