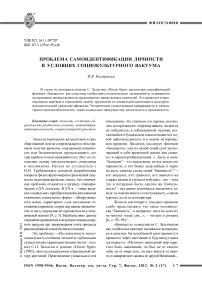Проблема самоидентификации личности в условиях социокультурного вакуума
Автор: Компанеец Валерий Васильевич
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале романа С. Залыгина «После бури» рассмотрен специфический феномен «бывшести» как следствие глобального политического эксперимента, основанного на отрицании преемственности традиционных нравственных ценностей. Это приводит к неисчислимым жертвам и страданиям людей, трудностям их социальной адаптации и культурно-психологической самоидентификации. Человеческое существование превращается в элементарное приспособленчество, теряя изначально присущие ему целостность и органичность.
Личность, состояние обреченности, раздвоенное сознание, метаистория, интенциональность, социокультурный хронотоп
Короткий адрес: https://sciup.org/14974513
IDR: 14974513 | УДК: 821.161.1.09"20"
Текст научной статьи Проблема самоидентификации личности в условиях социокультурного вакуума
Эпоха исторических катаклизмов и преобразований всегда сопровождается обострением чувства времени, ощущением конечности или бесконечности происходящего, его трагедийности или комедийности. Все это составляет основу онтологического оптимизма и пессимизма. Нельзя не согласиться с Н.Н. Трубниковым, который, разрабатывая вопросы философско-мировоззренческой сущности категории времени, писал, что означенная проблема относится к разряду специфических в XX столетии. В XX в. – «веке великих социальных преобразований и разложения отживших социальных форм» – обнаруживается новое, характерное «для миллионов отношение к времени, острое ощущение зависимости от него, ощущение его причастности к человеческой жизни» [9, с. 5]. Наиболее явно данное ощущение проявляется в ситуации социокультурного вакуума как закономерном итоге процесса революционной ломки бытия и сознания.
Эту проблему – обусловленность психосоциального состояния личности глубинными сущностными характеристиками эпохи – поднял С.П. Залыгин в романе «После бури» (1985), явно недооцененном современной автору критикой. Произведение уникально в том отношении, что главным его героем, носителем исторического мироощущения, является не победитель, а побежденный; человек, пытающийся в буквальном смысле выжить в новой действительности и в новом историческом времени. Писатель исследует феномен «бывшести», уже по самой своей сути заключающий в себе временной аспект как сюже-то- и характерообразующий. «...Быть и жить “бывшим” – это испытание, не все могли его перенести, и кто бежал куда-нибудь к черту на рога, заметая следы своей “бывшести”,” – кто вешался, кто травился, кто женился на старых вдовах и уходил в избушки... кто – хотя это и потруднее было, кругом же бдительность! – все равно изловчался выскочить замуж за новоявленного совслужащего, совсем хорошо, если за кооператора.
Жители настоящего, текущего времени слабо представляют, что такое человеческая “бывшесть”, а напрасно: многих-многих не минует чаша сия...», – читаем в романе [6, с. 95–96] 1.
«Бывшесть» осмысляется С. Залыгиным как глобальное явление, вызванное выпадением в казалось бы незыблемой цепи времен (от прошлого через настоящее к будущему) звена настоящего: «Истинно: нынешний мир перестал быть нынешним, он был не от самого себя, не от мира сего, он весь явился из какого-то невероятного далека, из другой Вселенной...
Настоящее оказалось лишним, исчезло бесследно и стало так, как будто и не бывало никогда никакой Середины, а были только такие же лунные, ничем не различимые друг от друга Начало и Конец... Вечность была, а ей какое дело до Настоящего?» (с. 66).
Некие высшие космические силы уничтожили привычную среду существования и создали мир, приобретший вполне реальные страшные, а иногда и явно абсурдные очертания. Основной особенностью этого возникшего вдруг мира стали непредсказуемость и «из-наночность». «Все перемешалось... Дворяне стали плебеями, плебеи – дворянами, толпа – армией, армия – толпой, большевики дружат с буржуями, воюют с социалистами» (с. 75). Сам герой, Петр Васильевич Корнилов, сын адвоката, бывший приват-доцент и белогвардейский офицер, взял себе всего лишь навсего чужое отчество (Николаевич), принадлежавшее умершему в лагере от сыпного тифа однофамильцу. Взял, чтобы элементарно выжить. «Мы были вместе – тот и этот Петр Корнилов! Ате-перь мы оба – это я один! Один!» (с. 20).
Герой выжил, более того – приспособился, но с течением времени он все отчетливее понимает глубинную трагическую подоснову свершившегося, с чем связаны трудности его социопсихологической самоидентификации.
Так, на каком-то этапе своей духовной эволюции Корнилов рассматривает потерю настоящего отчества как следствие исторического компромисса, свершившегося не в данный момент, а в прошлом, как результат сознательной договоренности двух отцов – адвоката и инженера, Василия и Николая; как некую путаницу, истоки которой в глубинах национальной истории и психологии. Отец-инженер говорит отцу-адвокату: «Мы-то с вами перепутали между собой своего сына Петрушку, но еще раньше наши с вами отцы разделили пополам одну фамилию и одно отчество. Следовательно, начало нынешней путаницы положили наши деды, а там копнуть, может, и прадеды замешаны!» (с. 279).
Для Петра Корнилова замена отчества означала не только замену родовых связей, корней, а вернее, их потерю, но и утрату ощущения собственной индивидуальности. Сделавшись Петром Николаевичем, он начинает сомневаться в содержании своей личности, ее физических и духовно-нравственных характеристиках. Герой теряет вместе с отцовством основное – историю своего «я», которая определяла его поведение, его психику, из которой он черпал духовные силы. Знаменательно, что, утратив отчество как духовную опору бытия, он ничего не подозревает о существовании сына от Евгении Ковалевской и тем самым лишает себя личного отцовства. Иначе говоря, внутренне Петр Корнилов потерял связи с миром, но это всего лишь одна сторона. С другой, и мир фактически утратил отношения с человеком, поскольку все причинно-следственные связи, обусловленные определенной конкретной личностной судьбой и обязательно исходящие от каждого индивидуума, оказались порваны. Разрушилась та сложнейшая и невидимая иерархия явлений, понятий, которая связывала маленькое житейское «я» с «Я» космическим, вселенским.
Однако самое трагическое заключается, пожалуй, в том, что, потеряв четкие очертания своей судьбы, своей личности, получив весьма ограниченные возможности для самореализации, герой С. Залыгина начинает постепенно осознавать недоступность для себя сколько-нибудь глубокого постижения мира. Не случайно он приходит к мысли о существовании «истины ужаса», путь к которой отождествляется с заглядыванием «в глубину земляной скважины» (с. 250), то есть со страшной тьмой, полным отсутствием света, с мраком могилы. Космическое, свободно плавающее в пространствах и временах «я» сузилось до небольшого земляного отверстия с могильным запахом. Лишенное духовных истоков большого, «я» маленькое и житейское, озабоченное лишь выживанием, действительно увидело и «истину ужаса» и ужас истины.
Анализируя такого рода метаморфозы, можно построить целую систему человеческих представлений о мире, о себе, о смерти и бессмертии, в которых будет немало верного, ценного, непреходящего. Но есть одно понятие, выдвинутое Гегелем в «Феноменологии духа» – несчастное сознание. Именно оно, несмотря на то, что «бывшесть» героя не помешала ему пережить и счастливые мгновения, более всего подходит к залыгинскому Корнилову и подобным ему. Это нравственно-психологическое состояние характеризуется прежде всего наличием устойчивого комплекса утрат и потерь. «Несчастное сознание... есть трагическая судьба достоверности себя самого, долженствующей быть в себе и для себя. Оно есть сознание потери всей существенности в этой достоверности себя и потери именно этого знания о себе, – потери субстанции, как и самости...», – пишет Гегель [3, с. 400].
И действительно, взяв чужое отчество, Петр Корнилов оказывается во власти чужого имени и чужой судьбы: «...Несуществующий Корнилов все еще настойчиво продолжал руководить и определять жизнь этого, существующего» (с. 108). Возникает та ситуация, когда, по словам интереснейшего мыслителя начала века В.Н. Муравьева, «...имя стремится стать личностью» [7, с. 111]. Самопознание человека всегда связано с неразрывностью времен – прошлого и настоящего, ибо познавать себя в настоящем возможно лишь оценивая и анализируя совершенные поступки и действия в прошлом. Отказавшись от своего прошлого и взяв чужое, герой Залыгина обнаруживает, что не знает самого себя.
В этом незнании – один из источников его раздвоенности. Как бы ни убеждал Корнилов Ковалевскую, что теперь он один живет за двоих, сам-то герой хорошо ощущает, что живут в нем все-таки два Корнилова. Да по-другому и быть не могло. Несчастное сознание, по характеристике Гегеля, – это « раздвоенное внутри себя сознание». «...Оно само есть устремление взора одного самосознания в другое, и оно само есть и то и другое самосознание...» [3, с. 112].
Сказанное вносит, на наш взгляд, некоторый дополнительный оттенок в осмысление традиционной для европейской и русской литературы темы и мотивов двойничества. Функция двойника в литературно-художественном творчестве многомерна и многозначна. Первоначально этот образ получал фантастическое истолкование, являвшееся основой иррационально-мистического толкования темы. Двойник представал как некий символ, знак внутренней скрытой связи литературного персонажа с потусторонними силами (тенденция, получившая особое развитие в немецком романтизме – в произведениях Гофмана, Гейне, Шамиссо и др.). В русской литературе XIX в. тема двойничества утвердилась начиная с по- вестей Гоголя «Нос» и Достоевского «Двойник» в социально-психологическом ракурсе, переросшем позднее в творчестве того же Достоевского в философско-психологический с ярко выраженным этическим пафосом. «Это – сильное сознание, потребность самоотчета и присутствие в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность», – писал Ф.М. Достоевский Е.Ф. Юнге [5, с. 149].
В контекст литературы XX столетия, особенно модернистской, двойничество вписывалось различными своими гранями, нередко осмысляясь в мифолого-космическом плане. Так, например, Андрей Белый выделял в творчестве А. Блока два основных типа двойника, соответствующие, по его мнению, двум первоосновам блоковской поэзии – Люцифера как олицетворения западноевропейской отвлеченности и Аримана, воплотившего собой восточную чувственность [1, c. 270, 288–289].
В романе С. Залыгина расщепленность личности главного героя предельно акцентирована: «разрозненный, расхристанный на части мир уже взрослого Корнилова тоже раздвоил, растроил, раздесятерил...» (с. 608–609). Такое состояние хорошо понимающий Корнилова Бон-дарин расценивает как двойничество (с. 722). Сам же его носитель ощущает себя вместилищем «тайной мысли человечества, которую он воплощал своим существованием». Такие, как он, не могли существовать «без собственной выдумки о самих себе» (с. 482). «Собственная выдумка о самом себе» – это и есть психологическая основа раздвоения личности. Но у Залыгина необходимость выдумывать себя продиктована не просто особенностями личности и не только психологией приспособленчества или поисками внутренней опоры в этическом самоконтроле. Для героя это прежде всего историческая необходимость, и более того – закономерность.
Глубиной и оригинальностью характеризуется мысль Гегеля (впоследствии подхваченная К. Марксом) о том, что история повторяется дважды, что повторение, удвоение заложено в природе исторических событий. «Благодаря повторению того, что сначала казалось лишь случайным и возможным, оно становится действительным и установленным фактом» [4, с. 296]. Маркс, развивая гегелевский тезис, впоследствии конкретизировал его, утверждая, что при повторении трагедия превращается в комедию. Но ведь можно вообразить и обратную ситуацию: комедия становится трагедией. Именно эту постоянную балансировку между трагедией и комедией, действительностью и игрой явственно видит герой Залыгина в своем поведении и поведении других людей: «Она ведь, эта женщина, – думает Корнилов о Ковалевской, – однажды решившись, все еще изо всех сил следовала за ним в этом фарсе и в этой игре, пока что, сегодня, сию минуту, ничтожно мелкой, на извозчичьем уровне, а завтра, может быть, и грандиозной, где-нибудь на границе между быть и не быть...» (с. 28).
Интенциональность – это свойство сознания быть направленным на объект, как будто обладающий всеми признаками реальности и в то же время не совпадающий с ней. Так и Петр Николаевич (бывший Васильевич), совпадая формально, не совпадает по сути с настоящим Петром Николаевичем Корниловым. XX столетие с его трагическим разладом между словом и делом, намерением и реализацией, теорией и практикой как бы психологически узаконил интенциональность, подвел под нее историческое обоснование.
М. Хайдеггер, автор трудов «Бытие и время» и «Время и бытие», непосредственно ставил характеристику онтологических основ мира в зависимость от временных параметров: «Бытие как присутствие определяется через время», «Бытие и время определяются взаимно» [11, с. 81, 82]. Время, по мнению Хайдеггера, – основной принцип интерпретации и способ понимания человека. При этом философ настаивал на разграничении времени исторического (реального хода истории, ставшего предметом изучения исторической науки) и времени философского. Историческое время – это так называемое «вульгарное время», ограниченное сиюминутными потребностями, оно выливается в совокупность моментов «теперь».
В таком «вульгарном времени» живет герой Залыгина: не попасться, не раскрыться, выжить... Нет ни прошлого, ни будущего. «Неужели и вся эта происходящая с Корниловым жизнь – это тоже “бывшее”?!» (с. 252) – вопрошает персонаж. Заметим: «бывшее» в его сознании отнесено к настоящему, слилось с ним.
Да и все «бывшие», отбросив свое прошлое, оказались, по существу, вне истории, были выбиты из нее, поскольку лишились важнейшего элемента исторического процесса – своих корней, предания. Но, как известно, вне исторического предания не может существовать историческая память.
Конечно, историческое предание может быть разного уровня: предание человечества, народа, нации, рода, семьи, отдельного человека, но в любом случае – это нить, связывающая личность с макромиром, придающая ей конкретную целостность, включающая ее в определенный аспект бытия. Утрата предания ведет к беспамятству и, в конечном счете, к потере «своего места» в действительности и истории, во времени и пространстве, что и происходит с «бывшими».
«Бывшесть» в романе Залыгина трактуется не только как морально-нравственное, историческое и «временное», но и как пространственное понятие. Выпадение из времени обусловливает уничтожение пространственных характеристик личности, которые, выражаясь первоначально в идее «своего места», отождествляются впоследствии с представлениями о природе, народе, стране: «...Россия – страна пространственная... Без пространства она ничто – ни страна, ни природа, ни народ, ни история. Пространство всегда существовало и вокруг Корнилова, русского человека, он из пространства и явился, туда же и уйдет – такова его человеческая натура» (с. 467). Обратим внимание: явился не из времени, а из пространства. Происшедшее в сознании героя перемещение ценностных ориентиров из временных параметров в пространственные вполне объяснимо. В данном случае скорее бессознательно герой Залыгина опирается на традицию отождествления моральных критериев с пространственными, уходящую корнями в глубины народного духа, что нашло свое отражение и в русском фольклоре, и в русской классической литературе. В отечественной историософии XX в., возникшей на основе идеалистической философии, утвердился тезис о приоритете индивидуального начала над общим. Это положение, противостоявшее официальным советским науке, искусству и литературе, воспевавшим прежде всего «живое творчество масс», разделяли и персоналист Н. Бердяев и «родо-вист» П. Флоренский (см.: [8]).
И действительно, волей исторических событий получилось так, что именно «бывшие», противопоставленные новой властью «живому творчеству масс», сброшенные на дно общества, оставшиеся один на один со своей судьбой, оказавшиеся перед необходимостью в одиночку решать свои жизненные проблемы, именно они более всего и ощутили на себе этот персонализм истории. Познав на собственных судьбах тяжкий груз всеобщего энтузиазма, дела прогресса, они разуверились и во всеобщем знании, в необходимости сообщества, содружества, любого объединения людей во имя какой-либо цели. Как раз об этом думает Корнилов, убежденный в том, что из «всеобщего знания никогда еще не возникало единения, а разобщение всегда» (с. 30).
Постановка в центр исторического предания конкретного индивида, понимание смысла истории как судьбы человека были неотделимы, в частности у Бердяева, от категории свободы. Он признавал: «Человек есть загадка в мире, и величайшая, может быть, загадка. Человек есть загадка не как животное и не как существо социальное, не как часть природы и общества, а как личность. Весь мир ничто по сравнению с чело- веческой личностью, с единственным лицом человека, с единственной его судьбой. Человек переживает агонию, и он хочет знать, откуда он пришел и куда он идет» [2, с. 11–12]. И уровень самоопределения личности мыслитель напрямую связывал с феноменом свободы, ее философией, которая самым непосредственным образом трансформировалась в «философию свободных» [8, с. 72].
И опять возникает парадоксальная и в то же время закономерная ситуация: «бывшие», оказавшись один на один со своей судьбой и все-таки сохранив в себе «остатки» прежней личности, прежнего «я», несмотря на все ухищрения скрыть их, чувствуют себя, по высшему счету, более свободными, чем те, кто принят и обласкан новыми властями.
«Я побежден... Все, что побежденный может потерять, я потерял... Значит, правил игры нет. Значит, я абсолютно свободен», – говорит Корнилову полковник Махов (с. 74). Примерно к тем же выводам приходит и сам Корнилов: «Подлинный, без подделки “бывший” вообще существовал в ясности понятий. Он знал, что хорошо, а что плохо, и даже более того – что на свете так, а что не так» (с. 96).
Однако историческое время внедрено в вечность, то есть в метаисторию. Но в таком случае в высшей степени справедлив и другой тезис Н.А. Бердяева: «Борьба субъекта и объекта, свободы и необходимости, смысла и бессмыслицы на языке метафизики есть символическая борьба, которая в “этом” дает знаки “иного”. За конечным скрыто бесконечное и дает о себе знаки. Глубина моего “я” погружена в бесконечность и вечность, и лишь поверхностный слой моего “я” освещен сознанием, рационализован, опознан на основе противоположения субъекта и объекта. Но из глубины даются знаки, там целые миры, там весь наш мир и его судьба» [2, с. 185].
Последнее особенно существенно. Именно метаисторический подтекст внес поправку и переоценку в осмысление Октябрьской революции, нравственно реабилитировав «бывших». Кроме того, он заставил увидеть в глобальном социальном эксперименте не ошибку неких сил, управляющих ходом событий, но «болезнь» истории, народа, нации. Суть этой болезни в том, что люди забывают об истинном метафизическом времени, в котором протекает их от Бога данное бытие, впадают в грех идолопоклонства перед будущим. Но в том-то и парадокс, что идолопоклонники будущего на самом деле оказываются не менее зависимы от прошлого, чем отвергнутые ими «бывшие».
В этой связи снова будет не лишним вспомнить М. Хайдеггера, по мнению которого истина обязательно включает в себя момент «неистины». Именно «неистину» он находил в исторически самоуправляемом мире личности. «...Ложность и искажение, ложь и заблуждение, обман и видимость – короче говоря, все виды неистины относят к человеку», они являют собой не просто нравственную деформацию его первородного облика, а одну из сторон его неповторимой экзистенции. Аналогичным образом неистинное присутствует и в истории, но это тоже не «порча» исторического пути человечества, а его необходимый момент. «Путь блужданий, которым идет человек, нельзя представлять себе как нечто, равномерно простирающееся возле человека, наподобие ямы, в которую он иногда попадает; блуждание принадлежит к внутренней конституции бытийности, в которую допущен исторический человек... Блуждание – это открытое место и причина заблуждения. Заблуждение – это не отдельная ошибка, а господство истории сложных, запутанных способов процесса блуждания» [11, с. 16, 23–24].
Применительно к предмету наших размышлений можно сказать, что реальность и ирреальность «бывших» в романе С. Залыгина, переплетение в их судьбах трагического и комического есть отражение общих «заблуждений» века. Вместе с тем эпоха революционных преобразований, в какую выпало жить центральному герою «После бури» Корнилову, характеризуется намеренной подменой органичного естественного бытия беспутьем, необычайной активизацией элемента игры, сплошного экспериментирования.
В самом деле, едва ли не все основные персонажи произведения являются носителями какой-либо идеи-эксперимента: Корнилов присваивает чужое отчество и живет чужой жизнью; Ипполит Иванович, помешанный на своей «Книге ужасов», создает человеконенавистническую философию; УУР (Уполно- моченный Угрозыска) одержим маниакальной мыслью построить новое общество на принципах «первобытного коммунизма»; полковник Махов выступает олицетворением свободы воли; Леночка Феодосьева наделяется качествами анти-Евы; увлекший Леночку Бурый Философ выражает позиции «великого мыслителя всех времен и народов», «ученого и революционера» Эммануила Ен-чмена (с. 350, 352).
Во власти тотального экспериментирования оказались прежде всего оторвавшиеся от реальной почвы «российские мальчики». Они, явившись «ради претворения в жизнь своих великих идей», каких только «ни устроили партий, фракций, восстаний, антиправительственных выступлений и демонстраций, фронтов и банд», куда только ни кинулись – «в анархизм... в терроризм, в сепаратизм и в областничество, в толстовство, в сектантство, в народ, из народа, в западничество и в визан-тийство!» (с. 293).
Неисчислимыми, зачастую безжизненными идеями «российские мальчики» во многом обусловили, по мысли С. Залыгина, эксперимент мирового масштаба – Октябрьскую социалистическую революцию. В этой связи симптоматичен следующий многозначительный факт: участники нелегальной большевистской деятельности, те, кто готовил революцию, сплошь и рядом отказывались от своих имен и присваивали чужие. Так, Корнилов узнает, что у его нынешнего крайплановского начальника Лазарева когда-то было «три имени! Может, и больше...»: Константин Евгеньевич, Кузьмич, а до Кузьмича – «странно, но он был... Петром!» (с. 643).
Драматизм и фарсовость, комедийность в истории вообще и человеческих судьбах в частности не только взаимосоотносимы, но и взаимообусловлены. Вот почему Корнилова так властно и неодолимо влечет фигура Лазарева: в нем, бывшем Петре, Петр Васильевич-Николаевич узнает своеобразного двойника, также лишенного (хотя и по другим социально-нравственным мотивам) родовых корней, собственного «я».
По-своему отражающая путь «российских мальчиков» судьба Лазарева как раз несет в себе те экспериментаторство и игру жизни, которые и вызвали отступление от естественности и органичности бытия. Отказ от данного при рождении имени и неоднократное присвоение чужих имен неизбежно вели к вытеснению из личности ощущения корней и чувства рода. Так или иначе лишенный связи с духовной традицией «предков», человек был обречен на сугубо функциональное существование, механическое усвоение чужого социально-психологического и нравственного багажа. Своя жизнь представала не живоносным органическим единством, а соединением взятого на стороне надындивидуального опыта, являющего собой нечто разорванное, мозаичное, лоскутное.
Таким образом, в романе С. Залыгина первостепенное значение приобретает мысль о том, что подмена естественного бытия, основанного на преемственности вековых нравственных традиций, бездумным экспериментированием, доходящей подчас до абсурда игрой крайне опасны для людей, чреваты их неисчислимыми страданиями и бедами. Ничем не оправданные эксперименты в конечном счете привели к перерождению когда-то жившей в согласии с природой цельной, неискаженной личности. В итоге люди лишились самого главного – возможности строить свою судьбу. Подтверждением этого и является психология показанных в романе «бывших», чей социальноповеденческий облик предельно точно может быть выражен словами П. Флоренского: «Не “я живу”, а “со мною происходит”» [10, с. 174]. Утратившие почву под ногами, лишенные корней и родовых связей, не способные к унаследованию духовных ценностей предков люди типа залыгинского Корнилова целиком оказались во власти разрушительной стихии, которая несет их в никуда.Только благоустроенность ритмичного ненарушенного бытия, где всему предназначается свое место и время, в значительной степени обусловливает непрерывность исторического развития нации и адекватную со- циокультурную идентификацию каждой отдельной личности.
Список литературы Проблема самоидентификации личности в условиях социокультурного вакуума
- Белый, А. Воспоминания о А.А. Блоке/А. Белый//Эпопея: лит. сб. -Берлин, 1923. -№ 4. -С. 256 -301.
- Бердяев, Н. А. Царство Духа и царство кесаря/Н. А. Бердяев. -М.: Республика, 1995. -375 с.
- Гегель, Г. В. Ф. Сочинения. В 14 т. Т. 4. Система наук. Часть первая. Феноменология духаи/Г. В. Ф. Гегель. -М.: Изд-во соц.-полит. лит., 1959. -440 с.
- Гегель, Г. В. Ф. Сочинения. Т. 8. Философия истории/Г. В. Ф. Гегель. -М.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1935. -468 с.
- Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 30. Кн. 1. Письма. 1878-1881/Ф. М. Достоевский. -Л.: Наука, 1988. -456 с.
- Залыгин, С. П. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4. После бури/С. П. Залыгин. -М.: Худож. лит., 1990. -783 с.
- Муравьев, В. Н. Письма. Внутренний путь. Ф илософские за метки, а форизмы/В. Н. Муравьев//Вопросы философии. -1992.-№ 1. -С. 97-114.
- Неретина, С. С. Бердяев и Флоренский: о смысле исторического/С. С. Неретина//Вопросы философии. -1991. -№ 3. -С. 67-83.
- Трубников, Н. Н. Время человеческого бытия/Н. Н. Трубников. -М.: Наука, 1987. -255 с.
- Флоренский, П. А. Том 1. Столп и утверждение Истины (I)/П. А. Флоренский. -М.: Правда, 1990. -491 с.
- Хайдеггер, М. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего периода творчества/М. Хайдеггер. -М.: Высш. шк., 1991. -192 с.