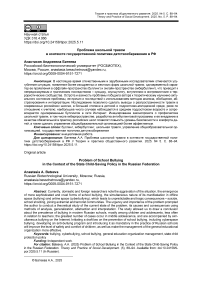Проблема школьной травли в контексте государственной политики детствосбережения в РФ
Автор: Батеева А.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время отечественными и зарубежными исследователями отмечается усугубление ситуации, появление более изощренных и жестоких форм школьной травли, одновременный характер ее проявления в оффлайнпространстве (буллинг) и онлайнпространстве (кибербуллинг), что приводит к непредсказуемым и трагическим последствиям – суициду, скулшутингу, вступлению в экстремистские и террористические сообщества. Острота и важность проблемы побудила автора к теоретическому изучению актуального состояния проблемы, ее причин и последствий с использованием методов анализа, обобщения, абстрагирования и интерпретации. Исследование позволило сделать выводы о распространенности травли в современных российских школах, в большей степени в детской и подростковомолодежной среде, реже по отношению к учителю; наибольшее число случаев наблюдается в среднем подростковом возрасте и сопровождается одновременным буллингом в сети Интернет. Инициирование законопроекта о профилактике школьной травли, в том числе киберпространстве, разработка антибуллинговой программы и ее внедрение в качестве обязательной в практику российских школ позволят повысить уровень безопасности и комфорта детей, а также сделать управление общеобразовательной организацией более эффективным.
Буллинг, кибербуллинг, школьная травля, управление общеобразовательной организацией, государственная политика детствосбережения
Короткий адрес: https://sciup.org/149148024
IDR: 149148024 | УДК: 316.4.066 | DOI: 10.24158/tipor.2025.5.11
Текст научной статьи Проблема школьной травли в контексте государственной политики детствосбережения в РФ
Москва, Россия, ,
Russian Biotechnological University, Мoscow, Russia, ,
Введение . На смену национальному проекту «Образование» пришел новый – «Молодежь и дети» (2025–2030 гг.)1, который включает девять федеральных проектов: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Ведущие школы», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет». Одной из его целей является обеспечение комфортной и безопасной среды, в том числе в системе общего и дополнительного образования, где дети и подростки 7–17 лет суммарно проводят по 8–10 часов в день.
На основе результатов опроса обучаемых (n = 803), родителей (n = 981) и школьных учителей (n = 128) исследователями Института образования НИУ ВШЭ установлено: ежедневно 66,5 % школьников имеет 6–7 уроков; 55,0 % посещают учреждения дополнительного образования, в среднем 2,5 раза в неделю; 38,0 % занимаются с репетитором 2–3 раза в неделю, а также выполняют домашнее задание более 2 часов, в том числе в выходные дни (Княгинина и др., 2024). Длительное пребывание в общеобразовательной организации сопровождается тесным добровольным или вынужденным взаимодействием с другими учащимися, педагогами, сотрудниками, администрацией, что может спровоцировать возникновение конфликтных ситуаций, проявление вербальной и физической агрессии. Со временем из единичных случаев насмешек, издевательств, унижений это перерастает в систематическую травлю – буллинг (от англ. bullying – «травля»), к которой подключаются другие обучаемые, а иногда и педагоги, усиливая давление на пострадавшего, усугубляя его страдания.
Материалы и методы . В целях изучения проблемы травли в современных российских общеобразовательных организациях, ее причин и последствий проведен теоретический анализ нормативно-правовых документов, результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, Института образования НИУ ВШЭ, вторичных данных, полученных отечественными и зарубежными учеными. Исследование проводилось с использованием общенаучных методов обобщения, абстрагирования и интерпретации.
Результаты . Проблема травли в школе долгое время оставалась табуированной темой как в педагогической среде, так и в научном сообществе, явлением, которое многие десятилетия было неотъемлемой частью школьной жизни. Результаты исследований современных зарубежных (Barlett et al., 2021; Kang et al., 2024; Kowalski et al., 2014) и отечественных (Влияние цифровых медиа…, 2021; Волкова, Волкова, 2017; Дейнека и др., 2020; Кривцова и др., 2016; Молчанова, Новикова, 2020; Новикова и др., 2021; Опросник риска…, 2015) авторов, опросы агрегаторов общественного мнения (ВЦИОМ, ФОМ, UXSSR) позволяют говорить о возрастании количества случаев буллинга (с 2015 по 2018 г. число детей – жертв школьной травли в России увеличилось на 10 % и составило 37 % всех учеников) (Новикова и др., 2021), о более жестоких и извращенных формах его проявления, комбинации буллинга и кибербуллинга (травли в сети Интернет), приводящих к нарушению физического и психического здоровья подростков и молодежи, страху, нежеланию учиться, апатии, безысходности, попыткам суицида, скулшутингу, вовлечению в религиозные секты, экстремистские и криминальные сообщества, вызывая необходимость поиска путей профилактики, пресечения и урегулирования данного феномена.
Согласно опросу ВЦИОМ 2021 г.2, 18 % респондентов сообщили, что подвергались травле в течении жизни; 16 % выступали в роли свидетелей или очевидцев травли по отношению к друзьям, знакомым, родственникам; 3 % признались, что сами инициировали травлю или принимали в ней непосредственное участие. Чаще всего инциденты происходили в школе (38 %), реже на работе (32), в семье (15), колледже или вузе (13 %). Опрос ВЦИОМ 2024 г. показал, что 98 % случаев буллинга возникало внутри детского коллектива, 41 % – со стороны учителя по отношению к ученику, в городах чаще, чем в сельских поселениях, среди современной молодежи чаще, чем среди представителей старшего поколения (65 лет и старше). В исследовании «Движение первых», проведенном по инициативе Комитета по молодежной политике (n = 9 500), 60 % респондентов имели дело с буллингом в среднем и старшем подростковом возрасте3, они оценивают свою безопасность в школе ниже, чем те, кто напрямую с ним не сталкивался.
В соответствии с результатами опроса Департамента методического обеспечения «Движения первых», большинство респондентов (62 %) старше 25 лет, имеющих детей от 6 до 18 лет
(n = 13 321), из общей выборки 16 998 человек, сравнивая ситуацию буллинга в настоящий момент и в их собственном детстве, оценивают современное положение как более серьезное, требующее урегулирования и оказания помощи пострадавшему1. Тем не менее каждый десятый родитель не считает необходимым вмешиваться в «естественный ход вещей»2, а 14 % педагогов и 8 % родителей, знавших о буллинге, не приняли никаких мер противодействия3.
По мнению 48,5 % родителей в возрасте 30–45 лет, принявших участие в совместном исследовании компании «Где мои дети» и благотворительной организации АНО «БО “Журавлик”» (программа «Травли NET») с использованием метода онлайн-анкетирования (n = 4 027), образовательная организация часто занимает нейтральную позицию при возникновении школьной травли, стараясь ее не замечать, не придавать огласке либо не считать это травлей4. 9,6 % респондентов обвиняли педагогов в инициировании буллинга из-за создания провокационных ситуаций в воспитательных целях. Тем не менее 20,3 % опрошенных отметили активную роль учителя в пресечении агрессии без вмешательства родителей.
Современные поколения детей и молодежи уже не разделяют реальное и виртуальное пространство, проживая жизнь одновременно в каждом из них, что не только дает им преимущества, но и создает новые угрозы и риски, в том числе опасность подвергнуться различным видам кибербуллинга (от англ. cyberbullying – «травля в сети Интернет»), наиболее деструктивные из которых – секстинг (пересылка личных сообщений, фотографий интимного характера с использованием современных гаджетов без разрешения владельца), грумминг (установление доверительных отношений между взрослым и ребенком в целях склонения последнего к интимной близости), фишинг (похищение конфиденциальных данных интернет-пользователей), сталкинг (навязчивое, нежелательное поведение, проявляющееся в форме домогательств, запугивания или преследования), троллинг (форма поведения, включающего провокации и издевательства в сети), флейминг (деструктивный вид поведения, заключающийся в обмене агрессивными репликами в чатах, на форумах и пр.), хейтинг (проявление ненависти, необоснованной, неконструктивной критики в целях формирования негативного образа объекта травли) и др.
По данным совместного общероссийского исследования (n = 2 000) платформ VK и компании UXSSR, с кибербуллингом встречались 57 % опрошенных совершеннолетних россиян обоих полов5. Масштабность травли в интернет-пространстве обусловлена тем, что более 80 % российских подростков имеют профиль в социальной сети. Уже к 2014 г. у каждого шестого из них было более 100 виртуальных друзей, а у 4 % – более 300 (Зинцова, 2014), что свидетельствует об интенсивности онлайн-коммуникаций современных поколений детей и молодежи. Наиболее частыми жертвами кибербуллинга являются учащиеся 6–9-х классов, большинство из которых (48–73 %) знают личность своего преследователя. Факторами риска выступают низкий социально-экономический статус родительской семьи, социальное неблагополучие, особенности физического или когнитивного развития, гендерная принадлежность (мальчики подвергаются кибербуллингу чаще девочек), недостаток цифровой грамотности педагогов и родителей, не позволяющий им выявить скрытый характер развития и протекания ситуации на ранней стадии. Несмотря на это, больше половины респондентов не обращаются за помощью к взрослым, пытаясь решить свои проблемы самостоятельно, часто не имея должной поддержки, знаний и ресурсов, что провоцирует усугубление ситуации и приводит к различным видам девиантного поведения, психологическим расстройствам (Влияние цифровых медиа…, 2021).
Проблема травли как в оффлайн-среде (буллинг), так и в онлайн-пространстве (кибербуллинг) требует решения на всех уровнях системы государственного управления – от нормативноправового регулирования на федеральном уровне до введения дополнений в устав конкретной общеобразовательной организации – положений, запрещающих агрессивные действия по отношению к учащимся и педагогам и предусматривающих соответствующие меры ответственности.
Острота и важность проблемы побудила депутатов Государственной думы РФ совместно со специалистами Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ инициировать создание законопроекта, направленного на пресечение агрес- сивного поведения в общеобразовательных организациях через проведение разъяснительной, групповой и индивидуально-профилактической педагогической работы, а также психологического консультирования. В законопроекте раскрыто содержание понятия травли – «не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица»1. Также предусмотрены меры ответственности за неправомерные действия не только самого несовершеннолетнего правонарушителя, но и его/ее родителей, введено обязательное требование для общеобразовательных организаций сообщать о фактах буллинга в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних и защите и их прав (КДНиЗП). Кроме того, противодействие травле предлагается осуществлять через систематическое проведение антибуллинговых мероприятий, оказание психолого-педагогической помощи жертвам и свидетелям, включение потенциальных буллеров в социально значимые проекты и волонтерскую работу2 в целях исправления и изменения их ценностных ориентаций. Среди мер также обозначены введение административной и уголовной ответственности за буллинг, учитывая степень физического и психологического вреда, наносимого здоровью жертвы3; проведение анонимных опросов о травле со стороны учеников и учителей, что «позволит выявлять неблагополучные школы, которые находятся в зоне риска, и направлять туда школьных психологов»4.
В связи с одновременным характером травли в реальном и виртуальном пространствах представляются своевременными введение в законопроект понятия «травля в сети Интернет», т. е. «систематические, массовые умышленные действия, направленные на унижение чести и достоинства пользователя социальной сети, в том числе оскорбления, а также распространение заведомо ложной информации»5, и требования к модераторам социальных сетей блокировать страницы пользователей, содержащих неправомерные комментарии. Это должно «способствовать снижению количества суицидов среди детей и молодежи, а также противодействовать криминализации подростковой среды»6.
Для уменьшения рисков негативного влияния школьной травли на подростков и молодежь в ряде субъектов РФ разработаны методические рекомендации для педагогов, психологов, социальных педагогов, памятки и буклеты для учащихся и родителей7. Российским движением детей и молодежи «Движение первых» создана круглосуточная служба адресной поддержки, которая осуществляется через чат на сайте, группу во «ВКонтакте»8, бот в «Телеграме»9 и позволяет получить квалифицированную помощь специалистов. Также запущен образовательный курс «Поговорим?» для молодых педагогов, наставников и вожатых, работающих с детьми и молодежью. Однако, как мы уже отмечали, этого недостаточно, необходима разработка и внедрение в практику общеобразовательных организаций комплексных антибуллинговых программ, как в большинстве зарубежных стран, например ABC (Ирландия), KiVа (Финляндия), OBPP (Норвегия), SAVE (Испания), которые доказали свою эффективность (Батеева, 2023).
ABC (национальная антибуллинговая программа Ирландии) внедрена в систему дошкольного и школьного образования (детский сад, начальная, средняя, старшая школа). В ее основе лежат принципы преемственности, комплексного и сетевого подходов. Она включает профилактику, диагностику, раннее выявление и снижение последствий травли на всех уровнях системы управления; предусматривает участие школы в сетевом сообществе (3–5 организаций) по про- филактике и минимизации травли с назначением ответственных кураторов, организованное на основе единой управленческой политики; предполагает обучение педагогических кадров, психолого-педагогическое консультирование всех участников образовательного процесса, разработку и внедрение в практику четких алгоритмов действий каждого субъекта при возникновении инцидента; активизацию потенциала обучаемых, поощрение к участию в собраниях, групповых занятиях, ролевых играх и культурно-досуговой деятельности (Sainz, Martin-Moya, 2023).
KiVa (правообладатель – Министерство образования и культуры Финляндии) адресована детям 5–11 лет и направлена на снижение уровня виктимизации среди сверстников; формирование навыков «активной дружбы», умений распознавать ситуации травли и противостоять им; разработку, внедрение и контроль за соблюдением внутренних общешкольных правил поведения. В программе задействованы все субъекты: администрация школы, педагоги, учащиеся, местное сообщество (Salmivalli et al., 2012). Целостность программы предполагает просветительскую работу с родителями, повышение уровня квалификации и информированности педагогов, активизацию обучаемых с использованием групповой и индивидуальной деятельности, видеоигр, анимационных занятий, дискуссий.
OBPP (Olweus Bullying Prevention Program), разработчиком которой является Институт жизни семей и сообществ (Family and Neighborhood Life Institute) Университета Клемсона (Норвегия), направлена на детей и молодежь от 5 до 18 лет и имеет цели снижения уровня внутриш-кольной агрессии, профилактики девиаций, формирования навыков просоциального поведения в среде сверстников (Bauer et al., 2007).
SAVE (Испания) реализуется в начальной и средней школе и предусматривает профилактику, минимизацию случаев буллинга, физического и психологического насилия над детьми; повышение эмоционального интеллекта учащихся; обучение навыкам просоциального поведения; демократизацию процесса управления; установление четких дисциплинарных правил в общеобразовательной организации (Gaffney et al., 2021).
Заключение . Подводя итог, следует сделать несколько выводов. Несмотря на то что на данный момент тематика травли прямо не включена в национальный проект «Молодежь и дети», отсутствует отдельный нормативно-правовой акт, направленный на профилактику и противодействие буллингу и кибербуллингу в системе общего образования, нужно отметить некоторые положительные тенденции. Во-первых, введение данного вопроса в повестку обсуждения российских парламентариев, представителей профильных министерств и ведомств, общественности, позволяет надеяться на создание юридических механизмов, очерчивающих круг полномочий, прав, обязанностей, степени ответственности всех субъектов, участвующих в учебно-воспитательном процессе. Во-вторых, несмотря на отсутствие антибуллинговых программ и их обязательного внедрения в школьную практику, как в большинстве зарубежных стран, в ряде субъектов РФ проводится профилактическая, просветительская, информационная, методическая работа с обучаемыми, педагогами и родителями. В-третьих, активизируется деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, которые включаются в осуществление государственной политики дет-ствосбережения. Примером служит создание специалистами проекта «Травли NET» пилотной комплексной антибуллинговой программы «Школа против травли»1, которая с 2022–2023 гг. апробируется в трех школах Москвы и подразумевает работу с администрацией, педагогами, детьми и родителями. В качестве результата планируется разработка онлайн-версии для внедрения в любой школе страны в целях создания единого стандарта профилактики травли, использования рабочих алгоритмов для уменьшения количества случаев буллинга, раннего выявления проблемы и аккумулирования лучших региональных практик в этой сфере. Кроме того, в рамках проекта подготовлены антибуллинговая хартия в качестве внутреннего нормативно-правового документа, ориентированного на профилактику школьного буллинга, свод правил, методические рекомендации как инструмент практического применения. В-четвертых, в конце 2024 г. были внесены изменения в Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации»2, что привело к появлению 15 новых направлений государственной молодежной политики (ГМП), созданию в субъектах РФ специализированных молодежных центров по интересам, что позволяет сделать управление ГМП более планомерным, упорядоченным и эффективным.
Вместе с тем, нужно констатировать непоследовательность, фрагментарность, отсутствие системности, регулярности и четких алгоритмов действий при возникновении случаев школьной травли, что препятствует эффективной борьбе с данным социальным феноменом, не позволяя кардинально изменить ситуацию. Обращаясь к анализу изложенных фактов, важно отметить, что, на наш взгляд, необходима система управленческих мер, направленных на изменение среды общеобразовательной организации, повышение безопасности обучаемых, уровня их доверия к властным субъектам (администрации, педагогам, специалистам), разработку алгоритмов и механизмов системной и комплексной профилактики с усилением агентности самих детей как ресурса, способного оказать содействие на формальном (органы школьного самоуправления) и неформальном (группы самопомощи) уровнях.