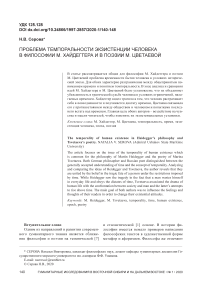Проблема темпоральности экзистенции человека в философии М. Хайдеггера и в поэзии М. Цветаевой
Автор: Cерова Н.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (51), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается общая для философии М. Хайдеггера и поэзии М. Цветаевой проблема временности бытия человека в условиях исторической эпохи. Для обоих характерно разграничение между общепринятым пониманием времени и понятием темпоральности. В ходе анализа и сравнения идей М. Хайдеггера и М. Цветаевой было установлено, что их объединяет убежденность в трагической судьбе человека в условиях ограничений, налагаемых временем. Хайдеггер видел трагизм в том, что человек растрачивает себя в повседневности и подчиняется диктату времени, Цветаева связывала его с противостоянием между обществом и человеком и попытками последнего встать над временем. Главная цель обоих авторов - воздействие на чувства и мысли читателей, чтобы изменить их экзистенциальные установки.
М. хайдеггер, м. цветаева, темпоральность, время, экзистенция человека, эпоха, поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/170175929
IDR: 170175929 | УДК: 125.128 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-1/140-148
Текст научной статьи Проблема темпоральности экзистенции человека в философии М. Хайдеггера и в поэзии М. Цветаевой
Вступительное слово
Одним из направлений в развитии современного гуманитарного знания является сближение философии и поэзии на тематической [7]
и стилистической [1] основе. В истории философии имеется немало примеров написания философских текстов в художественной форме метафор и афоризмов. Философы же отмечают в поэзии новаторство не только форм, но и идей [10]. Убедительным подтверждением этих тезисов служит поэзия М. Цветаевой и философия М. Хайдеггера. Что может объединять творчество немецкого философа и русской поэтессы? В произведениях двух гениальных современников имеется немало общих тем, но особенно сближает их тема временности человеческого бытия. Свое отношение к времени они выразили в фундаментальных произведениях, написанных в один и тот же период. Работа «Бытие и время» М. Хайдеггера была издана в 1927 г., а стихотворение «Хвала времени» М. Цветаевой впервые увидело свет в сборнике «После России» в 1928 г. Отношение со своим временем у них складывалось непросто: их преследовали непонимание, осуждение и одиночество. Они понимали, что ничего нельзя изменить в человеческой жизни из-за того, что она подчинена счету времени и ограничена условиями исторической эпохи. По их признанию, человеку необходимо определить свое отношение к времени, чтобы не растратить свою жизнь в его бесконечном потоке. Однако именно так и проходит жизнь большинства людей, и в этом состоит ее трагизм. В этой связи нам представляется важным изучение проблемы темпоральности как основы, задающей смысл человеческому бытию, по работам М. Хайдеггера и М. Цветаевой. Для этого следует, во-первых, рассмотреть, как М. Хайдеггер разграничивает понятие «темпо-ральности» и общепринятое представление о времени. Во-вторых, выявить основные идеи, раскрывающие тему темпоральности экзистенции человека в поэзии М. Цветаевой. В-третьих, показать литературные приемы, с помощью которых поэтесса выражает эту тему в своих произведениях. Мы предполагаем, что внимание к данной теме в творчестве М. Хайдеггера и М. Цветаевой неслучайно, а их замысел состоял в том, чтобы помочь человеку, оказавшемуся в трагической ситуации, в решении экзистенциальных проблем.
М. Хайдеггер о темпоральности и публичном времени
Начало ХХ в. было насыщено событиями, которые оставили след в душах людей и заставили их искать основы своей жизни. В тот исторический период для многих философов и поэтов ведущей темой творчества стала тема временности человеческого бытия. Интерес к ней воплотился в постановке темпоральной проблематики, которая была детально разработана М. Хайдеггером. Он предварил ее изучение строгим разграничением между понятием темпоральности и общепринятым пониманием времени. «Поскольку выражение “временный” в приведенном значении засвидетельствовано дофилософским и философским словоупотреблением и поскольку в последующих исследованиях оно будет применено еще для другого значения, мы именуем исходную смысловую определенность бытия с его чертами и модусами из времени его темпоральной определенностью» [8, с. 35]. Оправдано ли введение в философию нового термина и в чем состоит суть различия между общепринятым представлением о времени и темпоральностью?
По мнению Д. Хоя, это разграничение было необходимо из-за того, «что, исходя из обычного понимания времени, феноменологически определимые особенности темпоральности остаются необъяснимыми» [16, с. 56]. М. Хайдеггер отводил темпоральности конституирующую роль в бытии человека, и в этом качестве она должна была задавать ему определенный смысл. Человек не может вести бессмысленное существование, но в чем он должен искать его смысл? «Смысл означает на-что первичного наброска, из которого нечто как то, что оно есть, может быть понято в своей возможности» [8, с. 364]. Существование человека в настоящем имеет смысл, если в будущем ему открываются перспективы реализации его личности. Из этого следует, что время его существования не может быть разделено на прошлое, настоящее и будущее, но для общепринятого понимания времени такое разделение является обычным и необходимым для описания изменения объектов. Исходя из этого можно утверждать, что введение в философию термина «темпоральность» является обоснованным. Свойство темпоральности задавать целостность и смысл бытию человека следует и из ее определения: «этот феномен как бывшествующе-актуализирующее настающее единый, мы именуем временностью» [8, с. 366]. Следствием того, что именно темпоральность определяет бытие человека, стало его отличие от любого иного бытия в мире. Оно есть «эк-зи-стенция» [9, с. 198], то есть экстатическое бытие, представляющее собой единство сущности и существования человека.
Экстатический характер бытию человека задает природа конституирующей его темпо-ральности, так как каждый ее модус – прошлое, настоящее или будущее – является не кратким мгновением, но экстазом. «Временность есть исходное “вне-себя” по себе и для себя самого. Мы именуем поэтому означенные феномены настающего, бывшести, актуальности эк-стазами временности» [8, с. 369]. Они не существуют отдельно друг от друга и в их единстве проявляется темпоральность. Являясь консти-туентой экзистенции человека, она предопределяет его отношение ко времени и ко всякому временному бытию, и, наоборот, никакое иное временное существование не может определять темпоральность. Она есть исходное время по отношению к любому временному бытию. Характер же этого отношения определяется тем, ориентирован ли человек на самореализацию и развитие своей личности или он безнадежно попал в зависимость от повседневных дел и мнения окружающих его людей.
Г. Харман пишет, что М. Хайдеггер «думает, что использование объектов человеком дает им онтологическую глубину, освобождает их от необходимости быть простыми частями наличной физической материи» [15, с. 16]. Это мнение немецкого философа он считал ошибочным и признавал необходимым учесть, что «сами объекты уже больше, чем наличное» [15, с. 16]. Г. Харман прав, но только с одной оговоркой: объекты могут быть больше, чем наличное бытие, если только человек признает за ними особое значение и уделяет им свое время. В этом случае не объекты, а он сам становится орудием для наличного бытия. Однако разве человек может существовать подобно объектам?
Попадая во власть повседневности, человек видит смысл своего существования в приобретении вещей и в заботе об окружающих людях. В попечении о них он подчиняет свое существование логике «несобственной временности» [8, с. 367]. Каждым своим модусом она способствует «падению» [8, с. 204] человека, все более отстраняющегося от себя самого. «Несобственное будущее, – писал М. Хайдеггер, – имеет характер ожидания» [8, с. 378]. Ожидая, человек надеется на то, что событие свершится само по себе, и оно совершается без его участия. Увлекая за собой человека, это событие подчиняет его внешним обстоятельствам, и в результате он уподобляется одному из объектов наличного бытия. «Несобственное настоящее» [8, с. 380] или актуализация проявляется в полном сосредоточии человека на «озаботившем» [8, с. 380] его объекте. «Озабочение всегда уже есть, как оно есть, на основе свойскости с миром. В этой свойскости присутствие может потерять себя во внутримирно встречном и быть им захвачено» [8, с. 96]. Принимая окружающие вещи за нечто более важное, чем он сам, человек не реализует личные надежды, стремления и принципы. Оставленные без внимания в настоящем, они забываются и уходят в прошлое, в котором много событий, людей, вещей, но нет места самому человеку. «Забытость как несобственная бывшесть относится тем самым к брошенному своему бытию; она есть временной смысл способности бытия, в меру которого я ближайшим образом и большей частью бывший – есмь» [8, с. 380, 381]. Человек помнит обо всем – о повседневных делах и нуждах других людей, но ничто из этого не напоминает ему о том, что он – самостоятельная и деятельная личность.
Однако положение человека не безнадежно, если помнить о том, что «несобственная временность» [8, c. 367] производится от «собственной временности» [8, c. 367] как изначальной для бытия человека. Отношение между ними следует понимать не в смысле вариативного продолжения, а в значении их полной противоположности. Если модусы «несобственной временности» [8, c. 367] ведут человека к растрачиванию и в итоге к потере себя в мире повседневности, то модусы «собственной временности» [8, c. 367], напротив, становятся условием удержания его в «собственной экзистенции» [8, с. 369]. «Заступание» [8, с. 378] как будущее ориентирует человека на открывающиеся перед ним возможности. По мнению К. Бутона, «Хайдеггер характеризует возможность как наиболее своеобразную онтологическую детерминацию Dasein, не указывая на то, какое значение имеет этот экзистенциал» [13, с. 149]. Однако, на наш взгляд, М. Хайдеггер рассматривает возможность как условие обретения человеком собственного бытия. «Мгновение-ока» [8, с. 379] как настоящее является для человека условием его самореализации без оглядки на то, что общество признает важным и необходимым в современной ситуации. «Возобновление» [8, с. 380] как прошлое помогает человеку сохранить себя и свое самобытное существование среди наличного бытия и бытия с другими людьми. Все эти модусы образуют «экзистенциальное единство временности» [8, с. 393], благодаря которому человек открывает настоящего себя миру и открывает для себя истину о мире. «Истолкование бытия как темпо- ральности, – писал Ж. Деррида, – недостаточно, чтобы дать ответ на вопрос о смысле бытия вообще, но это онтологическая точка отсчета для этого ответа» [14, с. 92]. Вследствие этого мир в целом и каждое его явление понимается не как эпизод в круговороте дней, но как уникальное и неповторимое событие. Откуда же тогда берется у человека эта навязчивая привычка мерить свои дни стрелками часов? Это – вопрос о происхождении и природе «публичного времени» [8, с. 459].
Анализируя основные положения «расхожей концепции времени» [8, с. 452], М. Хайдеггер указывает на то, что «публичное время» [8, с. 459] не тождественно ни объективному, ни субъективному времени. Он, таким образом, выводит темпоральную проблематику за рамки принятой в классической философии дилеммы объекта и субъекта. «До всякого решения о том, “все-таки лишь субъективно” публичное время или оно “объективно действительно” или ни то ни другое, прежде всего должен быть строже определен феноменальный характер публичного времени» [8, с. 459]. Сравнивая то, как в первобытную и современную эпохи люди ориентируются во времени, он пришел к выводу о том, что, хотя они использовали для наблюдения за ним разные средства, но их отношение к нему не менялось. Он объяснял это тем, что, погружаясь в поток повседневности, человек растрачивает себя в суете и «датирует» [8, с. 457] время, ориентируясь на логику изменений окружающих его вещей. Датировать время – значит определять то, сколько необходимо его затратить на выполнение повседневных дел. Из такого понимания времени у человека рождается потребность в создании искусственных часов, которые стали для него ориентиром во времени. Руководствуясь ими, он ведет подсчет и распределяет время своей жизни. Растрачивая себя на озаботившие дела, человек все более позволяет времени управлять им. Власть времени над ним проявляется в том, что чем больше он занят, тем больше он теряет время и ему ни на что его не хватает.
Общепринятое представление о времени человек признает правильным только потому, что таким его мыслят другие люди, с которыми он сосуществует. «Истолкованные и выговоренные в повседневном бытии-друг-с-другом “теперь, когда…”, “потом, как только...” бывают в принципе поняты, хотя они датированы лишь в известных границах однозначно» [8, с. 458].
Часы, без которых люди не способны планировать события своей жизни, стали универсальным способом измерения времени. Время, отсчитываемое стрелками часов, М. Хайдеггер характеризует следующим образом: «Озаботившее время дает структурно полно себя охарактеризовать: оно датируемо, отрезочно, публично и принадлежит, как структурированное, к самому миру» [8, с. 462, 463]. Время представляется чередой сменяющих и уничтожающих друг друга моментов «теперь», и потому ни один из них не вызывает у человека к себе какого-то особого отношения. Однако «публичное время» [8, с. 459] не порождается самостоятельно, но производится от «несобственной временности» [8, c. 367] человека и существует благодаря ему. Являясь общепринятым, время, тем не менее, не определяет индивидуального бытия человека. В этом его существенное отличие от темпо-ральности, конституирующей индивидуальное бытие каждого человека. Вопрос в том, как распознать, каким счетом времени руководствуется человек? О человеке мы узнаем по тому, что он говорит, поэтому ориентиром для нас могут служить его высказывания о времени.
Тема временности человеческого бытия в поэзии М. Цветаевой
Особенной стороной творчества М. Цветаевой является тема предопределения жизни человека границами одной исторической эпохи. Этой теме посвящены многие ее произведения, ставшие предметом анализа для современных исследователей [2]. Одни из них полагают, что в своем творчестве она ставит акцент на концепте «время-вечность» и «направляет читателя на понимание глубины онтологических проблем» [2, с. 12]. В чем заключается смысл данного концепта и исчерпывается ли им тема времени в поэзии М. Цветаевой? По мнению авторов, концепт «время-вечность» в стихотворениях поэтессы является структурообразующим компонентом, выражающим ее стремление оторваться от времени этого мира и достичь вечности за его пределами. Другие исследователи обращают внимание на ее противостояние своей эпохе и на «идею неприятия поэтом века (настоящего)» [3, с. 22]. Действительно, в своих стихах М. Цветаева неоднократно упоминала об антитезе времени и вечности и даже выражала свое стремление к независимости от неумолимого хода времени. Следует выявить, каким смыслом она наделяет понятия «время»
и «вечность» в своем творчестве и отличается ли он от их общепринятых значений?
В стихотворении «Минута» [112, с. 217] М. Цветаева противопоставляет время как признак быстротечности земного бытия вечности как источнику нетленности этого мира. Минута – это мера всему, что по своей природе изменчиво и смертно. Неизбежность уничтожения всякой земной жизни обесценивает саму жизнь и все живущее в этом мире. М. Цветаева по этому поводу писала: «О как я рвусь тот мир оставить, / Где маятники душу рвут, / Где вечностью моею правит / Разминовение минут» [12, с. 218]. Вечность в данном стихотворении олицетворяет не трансцендентный мир божественного бытия, но имманентный мир души поэта. Счет минут – это приговор всему, что поэтессе казалось бесценным и нетленным, то есть миру человеческой души. Минуты, которые отсчитывает стрелка часов, диктуют условия существования человека и привязывают его к непостоянным вещам и быстротечным событиям. В потоке минут растрачивается вся жизнь человека и ни одно ее мгновенье не значит ничего более, чем все остальные. Время, символом которого стали часы, связывает человека повседневными заботами и заставляет его забыть о себе. Они незаметно, минута за минутой отнимают у него право на собственное бытие и подчиняют его стандартным нормам существования в обществе.
М. Цветаева очень лично переживала драматические события своей эпохи и воспринимала ее как время, которое осталось равнодушным к ее творчеству. Она писала: «О поэте не подумал / Век – и мне не до него. / Бог с ним, с громом, Бог с ним, с шумом / Времени не моего!» [12, с. 319]. Была ли в том попытка поэтессы устраниться от безразличия и трагедий, от сутолоки и разобщения, постигших ее современников? Как бы ни желала М. Цветаева уйти от проблем своего времени, все же, по словам Л.Л. Керман, она «задохнулась от его тяжести» [4, с. 7]. Жизнь поэтессы была полна горестными днями и зависела от превратностей судьбы. О том, как близко она воспринимала все происходящее в ее эпоху, говорят за нее стихи: «Век мой – яд мой, век мой – вред мой, / Век мой – враг мой, век мой – ад» [12, c. 319]. В этих строках нет ни доли равнодушия и безучастности ко всем постигшим ее эпоху бедам, но, напротив, ее стихи проникнуты досадой, горечью и ненавистью по отношению ко всему, что разру- шало тонкий мир человеческой души. Она не смирялась и хотела бы вступить пусть даже в смертельную схватку с этим бездушным миром: «Если веку не до предков – / Не до правнуков мне: стад» [12, с. 319]. Но неумолимый и разрушительный ход времени захватил ее жизнь, и только в своей душе она оставалась до конца верна себе и независима от пресловутой современности. Она не принимала новомодных литературных течений, не стремилась им подражать и тем более была далека от «мелководья эмигрантской литературы» [6, с. 16]. Во всем она оставалась оригинальным поэтом и свободным по духу человеком. «Ценой громадных усилий Цветаева, – пишет В.Н. Орлов, – сохранила свою личность, свою “душу живу”» [6, с. 17]. Именно поэтому она не могла остаться в стороне от трагедий своей эпохи и как тяжкий крест несла на себе бремя своего времени.
Анализируя стихотворение «Прокрасться», А.Н. Безруков и Д.Е. Саликаева отмечают стремление М. Цветаевой победить свою эпоху. И эта победа состоит в предпочтении ею своего внутреннего времени действительному времени. Безусловно, М. Цветаева желала победы над неумолимым временем, но в чем она ее видела? Быть может в том, чтобы остаться незамеченной для своей эпохи: «А может лучшая победа / Над временем и тяготеньем – / Пройти, чтоб не оставить следа...» [11, с. 134]. Но разве мог такой поэт, как М. Цветаева, уйти незамеченным своими современниками? Ее замечали, но не принимали, и ей было необходимо себя отстоять. Настоящая ее победа над превратностями эпохи заключалась в том, чтобы задать ей свой отсчет времени: «Так: Временем как океаном / Прокрасться, не встревожив вод...» [11, с. 134]. Возможно, она понимала, что за ее поэзией будущее и в нем она найдет близких по духу соратников, нужно лишь «прокрасться» сквозь стену непонимания современников и бесчеловечность эпохи. М. Цветаева видела возможность победы над временем в признании ее творчества будущими поколениями в силу его вневременной сути.
Продолжение темы противостояния поэта времени мы находим в другом ее стихотворении – «Хвала времени». Осознавая всеистребля-ющую силу времени, М. Цветаева понимала, что победить его можно только не подчинившись ему и возвысившись над ним. В своей повседневности она была подавлена временем, в своем же творчестве она обретала полную свободу от него: «Ибо мимо родилась / Времени! Вотще и всуе / Ратуешь! Калиф на час: / Время! Я тебя миную» [12, с. 197]. Разница ее повседневного существования, в котором она была одинока, непонята, предана и унижена, и ее творческого бытия, в котором она осталась навсегда свободной, гордой, гениальной и признанной, свидетельствует о ее непростой судьбе. Все, о чем она писала, стало отражением ее экзистенциального опыта переживания времени и временности своего существования. Этот опыт лег в основу ее творчества, и потому «поэзия Цветаевой была монументальной, мужественной и трагической» [6, с. 16]. Она противостояла той обывательской форме существования, которая унижала достоинство человека и губила его свободный дух. М. Цветаева боролась против фальши и лицемерия, царивших в кругах новомодных поэтов. Она не уживалась в их среде – «среди никчемного птичьего щебетания» [6, с. 13]. Читая свои оригинальные стихи, она противостояла привычке литературных кругов «играть словами» [11, с. 64]. Известно, что конфликт со временем окончился для поэтессы гибелью, но не поражением, и то была «пусть безмерно горькая, но все-таки настоящая Победа незаурядных людей над страшным Временем» [4, с. 302]. Своей жизнью и творчеством М. Цветаева показала пример решительности не поддаться «падению» [8, с. 204] и мужества остаться личностью в безликой толпе обывателей.
По мнению А.Н. Безрукова и Д.Е. Саликае-вой, «время дробится в наследии поэта на объективное и субъективное» [2, с. 10]. Но, на наш взгляд, М. Цветаева не разделяла время на физическое и психологическое, и эта антитеза для нее не тождественна противоречию между временным и вечным миром. В ее стихах речь идет о противостоянии эпохи и временности ее собственной жизни. Протест М. Цветаевой не был направлен против людей, в обществе которых ей было скучно и вне общества которых ей было одиноко. Он был обращен к тем, кто готов был разделить ее убеждение о необходимости для человека встать выше условностей времени.
О литературных приемахв поэзии М. Цветаевой
Темпоральная природа языка выражается в тех его средствах, которые указывают на время и изменения явлений во времени. Среди них – разные части речи, прежде всего глаголы, выражающие разные модусы времени в известном значении. По этому поводу М. Хайдеггер отмечал, что языкознание основывается на общепринятой концепции времени и потому «проблема экзистенциально-временной структуры глагольных видов не может быть даже поставлена» [8, с. 392]. Общепринятое понимание времени состоит в том, что оно мыслится как последовательность разделенных моментов прошлого, настоящего и будущего без их экстатического единства. В этом значении глаголы могут служить описанию внешних событий, проходящих в действительном времени, но они не могут применяться для выражения темпо-ральности экзистенции человека в силу ее экстатического характера. Вопрос в том, возможно ли выражение внутренних переживаний времени человеком языковыми средствами?
Из нашего анализа мы не будем исключать глаголы, так как они являются существенной частью речи, а их виды указывают на то, как событие изменяется во времени. В русском языке выделяют два вида глаголов: глаголы совершенного вида, применяемые для обозначения завершенных событий, и глаголы несовершенного вида, обозначающие незавершенные или продолжающиеся действия. Если мы вернемся к работам М. Цветаевой и попытаемся проанализировать случаи применения ею глаголов обоих видов, то обнаружим следующие особенности ее стиха. Например, в уже приведенном отрывке из стихотворения «Минута» («О как я рвусь тот мир оставить, / Где маятники душу рвут, / Где вечностью моею правит / Разминове-ние минут») поэт использует для характеристики собственных действий глаголы совершенного вида («оставить»), а для характеристики действий неодушевленных минут или маятника – глаголы несовершенного вида («рвут», «правит»). Глаголы совершенного вида выражают свершившиеся события, благодаря которым реализуется экзистенция человека. Напротив, глаголы несовершенного вида указывают на то, что событие длится, но не очевидно, что оно сбудется и не станет причиной бесконечного ожидания и подчинения человека внешним обстоятельствам. Еще более интересной, на наш взгляд, представляется расстановка глаголов в стихотворении «Хвала времени». Следует отметить, что неодушевленное время тоже вершит события, но в этой чреде свершений нет места для собственной экзистенции человека. В итоговом четверостишии мы наблюдаем обратное: время уже ничего не вершит – оно тор- жествует над миром. Вместе с тем поэт совершает прорыв сквозь время и вырывается из-под его власти («Время! Я тебя миную…»). Таким образом, применение глаголов совершенного и несовершенного вида в стихотворениях поэта указывает на то, конституируется ли экзистенция человека собственной или несобственной темпоральностью.
К литературным приемам, используемым М. Цветаевой, принадлежат и такие, как полное исключение глаголов из стихотворения или, напротив, использование большого количества глаголов, следующих один за другим. По мнению В.А. Масловой, «большое количество глаголов здесь резко усиливают напряжение переживания, как бы не давая читателю опомниться» [5, с. 233]. Разумеется, глаголы выражают действия и предполагают динамику событий и перемену чувств. Смена переживаний оказывает сильнейшее экспрессивное воздействие, а его характер зависит от вида глаголов. Исходя из их различия, на наш взгляд, следует понимать цели автора и эффект описываемых действий, производимый на читателя. Рассматривая другую крайность литературного стиля М. Цветаевой, критики называют ее «безглагольным» поэтом» [5, с. 233]. Они объясняют исключение глаголов из стихотворений ее стремлением приблизить их к разговорной речи для произведения сильного эмоционального воздействия и для побуждения читателя искать «подразумеваемые глаголы» [6, с. 43]. Отсутствие глаголов в ее стихах, по нашему мнению, является еще одной попыткой освободить человека из-под власти времени, так как глаголы всегда содержат какой-либо временной модус – прошлое, настоящее или будущее. Исключая их, она тем самым возвышает человека над временем и открывает для него возможность выбора между «собственной временностью» и «публичным временем». Так, например, сводя к минимуму использование глаголов в стихотворении «О поэте не подумал», М. Цветаева ставит акцент на отсутствии привязанности человека к каким-либо событиям, протекающим во времени. Вместе с тем, посредством многократного применения существительного «век» и таких слов, как «время», «правнуки», «предки», она передает свое отношение к эпохе.
В своем творчестве М. Цветаева уделяла большое внимание морфологии слова. Многократно применяя в одном и том же произведении однокоренные слова, она стремилась расширить их семантическое поле и дать возможность проявиться новым смыслам. В.Н. Орлов отмечает ее «любовь к “корнесловию”, стремление добраться в слове до его корневого, глубинного смысла и вывести из него целый рой родственных звучаний» [6, с. 38]. К такому результату поэтесса стремилась в том числе путем повторения одного и того же слова в разных сочетаниях с глаголами и прилагательными. В стихотворении «О поэте не подумал» М. Цветаева варьирует слово «век» в сочетаниях со словами «яд», «вред» и «враг», тем самым усиливая впечатление о пагубности той эпохи для творческого человека. В стихотворении «Хвала времени» поэтесса как будто вступает в диалог со своим временем: «Время! Я не поспеваю», «Время, ты меня предашь!», «Время! Я тебя миную» [12, с. 197]. Показывая разные стороны своих отношений со временем, М. Цветаева открывает новые смысловые оттенки этого слова и через них побуждает читателя понять свое положение в контексте исторического времени. Главное, на что следует обратить внимание в ее поэзии, – это понимание различия между временем, согласно которому живут все люди, и временем индивидуального бытия человека. Подчеркивая контраст между ними, она стремилась подвигнуть читателей ценить свою жизнь и не тратить время на цели, определяемые внешними событиями эпохи.
Заключение
Творчество таких разных авторов, как М. Хайдеггер и М. Цветаева, имеет общие основания в их обоюдном ориентировании на поиск и открытие новых идей и оригинальных форм их выражения. Обоих роднит особое отношение к слову как способу произведения и сохранения бытия в его истине. Метафорический стиль философских работ М. Хайдеггера и метафизический характер стихов М. Цветаевой – еще один повод сказать о том, что их творческий поиск проходил в одном направлении. Тема темпо-ральности экзистенции человека для обоих стала центральной в их произведениях, потому что они отстаивали право человека на собственное бытие и свободу от диктата времени как механизма подчинения личности общепринятому образу жизни. Однако в оценках данной темы их разделяет понимание трагической судьбы человека в конкретную историческую эпоху. М. Хайдеггер видел трагизм в том, что человек подчинен условностям «несобственной временности» [8, с. 367], а М. Цветаева полагала, что трагизм в жизни человека начинается в моменты его противостояния общественности и навязываемого ею отсчета времени. Другим существенным расхождением является стремление М. Хайдеггера дать точное понятие тем-поральности в отличие от расхожего понимания времени. М. Цветаева, напротив, пыталась с помощью созвучных слов отвлечь внимание читателя от «прямого содержания слова-понятия» [6, с. 39], чтобы вызывать у читателей сходные представления и с помощью «слова-жеста» [6, c. 37] формировать целостный образ реального события во времени.
Из проведенного анализа темы темпорально-сти экзистенции человека в творчестве М. Хайдеггера и М. Цветаевой мы можем сделать ряд выводов. Во-первых, оба автора признают темпо-ральность основой бытия человека. Во-вторых, в изучении природы темпоральности поэтесса и философ отказываются от разделения времени на объективное и субъективное, признают ее основой целостного бытия человека, неразделимого на сущность и существование. Подобное разделение есть признак потери человеком своего собственного бытия и подчинения некоему среднему образу жизни. В-третьих, оба раскрывают механизмы подавления человека временем и показывают способы освобождения из-под его власти. В-четвертых, М. Хайдеггер и М. Цветаева путем углубления смысла слова «время» делают его суггестивным и тем самым мотивируют читателя на решительное изменение своей жизни и отношения к своей эпохе. Таким образом, понимание темпоральности, представленное в философии М. Хайдеггера и поэзии М. Цветаевой, является действенным механизмом преобразования экзистенциального опыта человека в направлении его самореализации в связи с открывающимися для него возможностями в определенном историческом контексте.
Список литературы Проблема темпоральности экзистенции человека в философии М. Хайдеггера и в поэзии М. Цветаевой
- Азарова Н.М. Язык философии и язык поэзии - движение навстречу (грамматика, лексика, текст). М.: Логос / Гнозис, 2010.
- Безруков А.Н., Саликаева Д.Е. Время-вечность как ведущий концепт стиля Марины Цветаевой // Studia Humanitatus. 2017. № 4. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// st-hum.ru/content/bezrukov-salikaeva-de-vremya-vechnost-kak-vedushchiy-koncept-stilya-mariny-cvetaevoy
- Болотова Н.С. Ассоциативное поле художественного текста как отражение поэтической картины мира автора // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2004. № 1. С. 20-25.
- Керман Л.Л. Марина Цветаева. Воздух трагедии. М.: АСТ, 2017.
- Маслова В.А. Поэт и культура: концептос-фера Марины Цветаевой. М.: Флинта, 2004.
- Орлов В.Н. Марина Цветаева. Судьба. Характер. Поэзия // Цветаева М.И. Избранное. М.: Просвещение, 1989. С. 5-46.
- Сиземская И.Н. Поэзия как жанр русской философии. М.: ИФ РАН, 2007.
- Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: Фолио, 2003.
- Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 192-220.
- Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. С. 50-115.
- Цветаева М.И. Избранное. М.: Просвещение. 1989.
- Цветаева М.И. Стихотворения. Переводы // Собрание сочинений в 7 т. Т. 2. М.: Эллис Лак, 1994.
- Bouton, C., 2014. Time and freedom. Evanston: Northwestern University Press.
- Derrida, J., 2016. Heidegger: the question of being and history. Chicago: University of Chicago Press.
- Harman, G., 2002. Tool-being: Heidegger and the metaphysics of objects. Chicago: Open Court.
- Hoy, D.C., 2009. The time of our lives: a critical history of temporality. Cambridge: MIT Press.