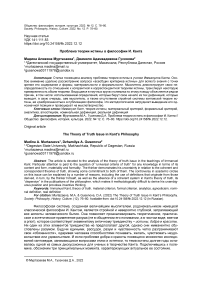Проблема теории истины в философии И. Канта
Автор: Муртазаева М.А., Гусенова Д.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу проблемы теории истины в учении Иммануила Канта. Особое внимание уделено рассмотрению вопроса «всеобщих критериев истины» для всякого знания с точки зрения его содержания и формы, материальности и формальности. Мыслитель демонстрирует свою неопределённость по отношению к когерентной и корреспондентной теориям истины, транслируя некоторую приверженность обоим теориям. Ведущаяся в научных кругах полемика по этому поводу объясняется рядом причин, в том числе: использованием определений, которые берут свое начало из тех дефиниций, которые выводит, в свою очередь, сам мыслитель, а также отсутствием стройной системы кантовской теории истины, её «разбросанностью» в публикациях философа, что методологически затрудняет выведение его однозначной позиции и провоцирует на мыслетворчество.
Иммануил кант, теория истины, материальный критерий, формальный критерий, аналитика, агностицизм, номинальная дефиниция, реальная дефиниция
Короткий адрес: https://sciup.org/149142044
IDR: 149142044 | УДК: 141:111.83 | DOI: 10.24158/fik.2022.12.12
Текст научной статьи Проблема теории истины в философии И. Канта
Во-первых, из-за неоднозначных интерпретаций истины как философской категории и разницы в содержательном различении ее критериев (формального и материального) исследователи до сих пор не могут ответить на вопрос, какой теории придерживался сам Кант – когерентной или корреспондентной.
Во-вторых, в рамках проблемы теории истины в кантовском учении внимание исследователей фокусируется преимущественно на неоднозначности выведенного Кантом агностицизма.
В-третьих, проблема истины у Канта не раскрывается только в одном произведении (как, например, размышления о добре и красоте, которые сосредоточены в двух последних «Критиках…» (Кант, 1994а, 2015)), а проходит лейтмотивом через все его творчество, что предполагает учёт и анализ всех аспектов его философской системы, а это методологически затрудняет выведение однозначной позиции философа.
Разногласия ученых по поводу того, какой из многочисленных теорий истины придерживался сам Иммануил Кант, основаны на тех определениях, которые берут свое начало из дефиниций, приводимых самим мыслителем, а именно:
-
1. «Номинальное определение истины, согласно которому она есть соответствие знания с его предметом, здесь предполагается заранее» (Кант, 1999: 105).
-
2. «Истина, говорят, состоит в соответствии знания с предметом. Следовательно, в силу этого лишь словесного объяснения, мое знание, чтобы иметь значение истинного, должно соответствовать объекту» (Кант, 1994б: 306).
-
3. «Материя познания есть его объект. Соответствие с ним есть истина» (Бархатков, 2010: 9).
Это классические формулировки корреспондентной теории истины. Однако сам философ, несмотря на то что приводит их в разных работах, с ними очевидно не согласен. Так, в VII главе «Логики» Кант рассуждает над несостоятельностью такого определения и говорит о логическом круге, в который оно (это определение) нас «вводит». «Поскольку, – отмечает он, – утверждается, что истинное знание должно соответствовать объекту, следовательно, для этого необходимо для начала “сравнить” моё знание с объектом познания, но это возможно лишь благодаря тому, что объект познаю я. Следовательно, мое знание должно подтверждать само себя, а этого еще далеко не достаточно для истинности» (Кант, 1994б: 306).
Парадокс этот объясняется тем, что Кант четко разграничивает номинальную и реальную дефиниции. В первом случае речь идёт о «логической сущности предмета» или того, что «отличает его от других объектов», а применительно к реальной дефиниции она демонстрирует нам «возможность предмета из [его] внутренних признаков» (Кант, 1994б: 306). В последнем утверждении совершенно очевидно, что Кант опирался на измышления Лейбница. И если номинальная дефиниция корреспондентной теории истины представляется более правдоподобной, имеющей право на существование, то применительно к реальной дефиниции всё обстоит несколько иначе.
В целом, извечный философский вопрос «Что есть истина?» для Канта принимает несколько иную формулировку, а именно: «Существует ли критерий истины и насколько он достоверен, всеобщ и годен для применения?» (Кант, 1994б: 306). Отвечая на поставленный вопрос, Кант, как известно, отверг всеобщий критерий истины, касающийся содержания знаний. Он считал, что вывести материальное его обозначение невозможно, поэтому предложил с самого начала четко разграничить принадлежащее материи, то есть объекту, и форме, то есть субъекту.
Соблюдения закона противоречия недостаточно для того, чтобы объявить знание истинным: оно может не противоречить себе, быть абсолютно правильным по форме, но при этом являться ложным по отношению к объекту. В таком случае, как отмечал Кант, данный закон дает «отрицательный признак внутренней логической истинности», то есть предоставляет лишь «логическую возможность знания» (Кант, 1994б: 310). То, что знание имеет основание и не имеет ложных следствий, гарантируется законом достаточного основания, который выводит положительный признак внешней истинности. На основании этого Кант выводит третий критерий – закон исключенного третьего.
Дальнейшие наши рассуждения по поводу агностицизма Канта приводят нас к вопросу: означает ли это невозможность выведения всеобщего материального критерия и то, что истина совсем недоступна познающему субъекту?
Истолкование кантовского агностицизма неоднозначно. Это связано с тем, что исследователи, сталкиваясь с моментами, которые несут противоположные тенденции, хотят «очистить» философию Канта от «противоречий» и «добиться большей определенности» в исследуемом направлении. Д. Юм, оказавший огромное влияние на критицизм Канта, считал, что «идея существования тождественна идее того, что мы представляем как существующее», мы не можем доказать реальны ли эмпирически данные объекты или нет, то есть существование «вещей в себе» и даже «вещей вне нас». Подобные размышления Юма приводят к полной элиминации вопроса об истине (Калинников, 2005: 143–144).
Итак, по Канту, достигнуть абсолютной истины невозможно, это подвластно лишь абсолютному разуму, который есть «единый всеохватывающий опыт», однако доля истинности есть в каждом, даже ошибочном, суждении. Это утверждение даёт философу основание разграничить «точное» знание, как соответствующее своему объекту, и «неточное», в котором «могут быть ошибки, не препятствующие цели данного познания» (Кант, 1994б: 311). Очевидно, что здесь мыслитель, до конца не прояснив суть точного и неточного знаний, вновь прибегнул к дефинициям корреспондентной теории истины.
При этом в главе «Идеал чистого разума» он достаточно развёрнуто характеризует абсолютный разум как некий идеал, являющийся средоточием «всей эмпирической реальности», в которой он, разум, стремится охватить всё и достичь абсолютного знания обо всем. Однако этим он и обманывается. Подпав под влияние «иллюзии, мы думаем, что это основоположение должно быть приложимо ко всем вещам вообще, между тем как на самом деле оно приложимо только к тем вещам, которые даны как предметы наших чувств» (Калинников, 2005: 153). В результате человеческий разум оказывается в смысловой ловушке, поскольку не может помыслить нечто, что является внешним по отношению к мыслимой им реальности.
Итак, истина – свойство знания, оно объективно, а признание истины субъективно. Кант подразделяет признание истинности на достоверное и недостоверное и выделяет три модуса, среди которых: мнение (проблематическое суждение), вера (ассерторическое суждение), знание (аподиктическое суждение). Такое различение «касается лишь способности суждения в отношении субъективных критериев подведения суждения под объективные правила» (Кант, 1994б: 322). Мнение невозможно a priori, в математике, метафизике, морали, его объектом являются эмпирические данные об объекте. «Мы имеем лишь смутное предчувствие истины, вещь кажется нам имеющей признаки истины...» (Кант, 1994б: 323).
В противовес этому вера, не имеющая дело ни с эмпирическими объектами, ни объектами рационального знания, рассматривается Кантом в качестве свободного признания за истину того, что предполагается «по моральным основаниям» (Кант, 1994б: 323), и чем больше такая «моральная настроенность человека, тем тверже и жизненнее его вера…» (Кант, 1994б: 323). Поэтому Кант считал, что в философии и математике нет и не может быть места вере; истинность знания должна основываться исключительно на доказательствах, которые достаточны и с объективной, и с субъективной стороны; только из подобного знания может развиваться наука.
Выйти из такого, как он это назвал, «логического круга» И. Канту позволило признание многообразия форм человеческого бытия, подобно тому как «отношение субъекта к объекту вовсе не сводится к познанию, это всего лишь один из аспектов существования» (Калинников, 2005: 161), и то, что «чистый разум есть такая обособленная и внутри самой себя столь связная сфера, что нельзя тронуть ни одной ее части, не коснувшись всех прочих …» (Калинников, 2005: 148). Понимание истины связывается философом с деятельностью, а знание есть результат последнего. Поэтому кантовская истина – «лишь один из аспектов деятельного существования человека, но продукт всех его аспектов» (Калинников, 2005: 162). Такое «практическое применение» чистого разума философ рассматривает во второй «Критике…» (Кант, 2015), в которой говорит об «истинной морали».
Проскальзывающая в работах Канта некоторая концептуальная «противоречивость», обозначенная нами в качестве таковой лишь номинально, вполне может быть переосмыслена в контексте признания корреспондентной и когерентной теорий истины не как позиционно противостоящих друг другу, а как взаимно дополняющих. По крайней мере отдельные попытки «примерить» эти две теории истин предпринимаются (Шемякинский, 2010: 28). И хотя когерентная теория истины ему более близка, чем корреспондентная: как известно, первая не исключает соответствия знания объекту, однако сам объект в его философской системе рассматривается как некая «конструкция» сознания, а не как вещь во внешнем мире. Поэтому и под истиной понимается здесь «согласие мышления с самим собой»2, а в философии И. Канта речь идёт об априорных формах мышления.
Список литературы Проблема теории истины в философии И. Канта
- Бархатков А.И. Теория истины И. Канта // Человек. Культура. Общество. Минск, 2010. С. 8-10.
- Билалов М.И. Истина. Знание. Убеждение. М., 2013. 128 с.
- Гулыга А.В. Кант. М., 1977. 303 с.
- Дэвид М. Корреспондентная теория истины // Эпистемы. Екатеринбург., 2007. С. 147-177.
- Калинников Л.А. Кант в русской философской культуре. Калининград, 2005. 311 с.
- Кант И. Критика практического разума. М., 2015. 222 с.
- Кант И. Критика способности суждения. М., 1994а. 367 с.
- Кант И. Критика чистого разума. М., 1999. 655 с.
- Кант И. Сочинения: в 8 т. М., 1994б. Т. 8. 718 с.
- Магомедов Д.И. Кант как основоположник когерентной теории истины // Поиск истины в пространстве современной культуры. Санкт-Петербург, 2015. С. 14-19.
- Шемякинский В.М. Проблема истины в физическом познании // Вестник Вятского государственного университета. 2010. № 2-4. С. 28-32.