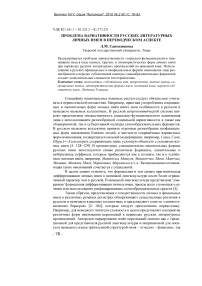Проблема вариативности русских литературных личных имен в переводческом аспекте
Автор: Сапожникова Лариса Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и истории языка
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема множественности социально-функционального именования лица в виде полных, кратких и гипокористических форм личных имён при переводах русских литературных произведений на немецкий язык. Использование в русских официальных и неофициальных формах именования лица разнообразной и нередко субъективной палитры словообразовательных формантов создает дополнительные сложности для переводчика.
Ономастика, собственное имя, антропоним, личные имена, сокращенные имена, гипокористические формы имен, немецкий язык, перевод собственных имен, людмила улицкая
Короткий адрес: https://sciup.org/146281466
IDR: 146281466 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Проблема вариативности русских литературных личных имен в переводческом аспекте
Специфику национальных именных систем следует обязательно учитывать в переводческой ономастике. Например, практика употребления сокращенных и ласкательных форм личных имён имеет свои особенности в русском и немецком языковых коллективах. В русской антропонимической системе широко представлена множественность социально-функционального именования лица с использованием разнообразной социальной вариативности, а также как общепринятой, так и субъективной палитры словообразовательных формантов. В русском языковом коллективе принято огромное разнообразие неофициальных форм именования близких людей, в частности сокращённых вариантных форм именования, подвергшихся сильной модификации, например, Саша , Саня , Шура (^ Александра ), сохраняющих лишь условную общность с основами полных имен [5: 128-129]. В производных уменьшительно-ласкательных формах русских имен используются самые различные форманты, ласкательные и нейтральные суффиксы, которые прибавляются как к полным, так и к усечённым основам имён, например, Машенька, Машуля, Машунечка, Маня, Манечка, Маняша, Манюня, Мася, Марьюшка, Марьинька и т.д. Эмоциональная составляющая таких именований сочетается с социальной.
В целом можно отметить, что формальная и тем самым прагматическая дифференциация личных имен в немецкой лингвокультуре носит более ограниченный характер, чем в русской. В немецкой лингвокультуре представлена ‘умеренная’ формальная дифференциация личных имен, прежде всего с помощью усечения или использования унифицированных словообразовательных средств [4].
Таким образом, представления о тождественности личных и фамильных имен в различных речевых регистрах обнаруживают существенные различия в русском и немецком языковых коллективах и представляют один из «лингвоэтнических барьеров» [2: 104], которые следует преодолевать переводчику. Например, для немецкого читателя сложность в целом представляет восприятие различных форм именования персонажей в переводах русских литературных произведений. Авторское варьирование имён персонажей связано как с традиционной для представителя русской лингвокультуры и непривычной для носителя немецкого языка трёхчленной структурой «имя - отчество - фамилия», так и с коммуникативными интенциями. Социально обусловленный выбор вариантов именования персонажа влечёт за собой широкую палитру литературных социальных модификаций имени, в частности ласкательных, фамильярных, пренебрежительных вариантов. Стратегии использования переводчиком вариантов русских литературных имён в немецких художественных переводах, а именно проблема выбора между сохранением авторской именной системы, т.е. различных форм именования персонажей, или приближением употребления имён к привычкам, узусу культуры реципиентов перевода, т.е. использованием понятных и приоритетных форм их личных имен, специально исследовалась в работе австрийского лингвиста И. Онхайзер на примере переводов романов Александры Марининой на немецкий язык [8].
Недоумение, а подчас и непонимание у немецкоязычного читателя инициируется многочисленными формами именования в тексте одного и того же персонажа. Немецкого читателя вводит в заблуждение выбор переводчиком принципа последовательной аллитерации русского варианта имени, что приводит, конечно, к созданию специфического национального колорита, но и к излишней «экзотизации» перевода. К тому же немецкий читатель предполагает в ряде случаев изменение референта имени и недоумевает по поводу количества персонажей, а также сюжетной коллизии. Например, И. Онхайзер указывает на то, что центральный персонаж романа А. Марининой «Стечение обстоятельств» Анастасия Павловна Каменская имеет в тексте восемь вариантов имени, в т.ч. Настя, Настасья, Стасенька, Аська и т.д. И. Онхайзер рекомендует переводчикам с осторожностью относиться к сохранению русских авторских вариантов имён персонажей и к проблеме социальной значимости употребления вариантов имени.
Исследователь Сара Хэги также считает, что переводчик не может исходить из того, что «среднему» немецкому читателю ясно, что Саша и Александр одно и то же лицо. Как положительный пример Хэги приводит французские и итальянские переводы романов Марининой, содержащие перечень главных персонажей с именами, отчествами, фамилиями и прозвищами [7].
Предметом рассмотрения в данной статье является практика использования различных методов формирования ономастических соответствий в литературном переводе с русского на немецкий язык, а именно изучение баланса между сохранением формального подобия ономастического соответствия авторскому варианту в принимающем немецком языке и ограничением вариативности социально-функциональных вариантов именования лица в современной русской литературе при переводе.
В ходе исследования анализу были подвергнуты ономастические соответствия имён персонажей в сборнике рассказов Людмилы Улицкой «Сквозная линия» (2002) и в его немецком переводе, выполненном Г.-М. Браунгардт (2003), которая является одним из лучших переводчиков современной русской литературы на немецкий язык.
Следует отметить, что повесть Людмилы Улицкой «Сквозная линия» является мини-романом. Истории, собранные в повести, объединены сквозной линией в лице главной героини, а также темой женской лжи, которая нередко носит характер выдумки, наивной детской лжи или желания сделать свою жизнь ярче, а подчас и лжи от отчаяния. В немецком варианте повесть носит название «Die
Lügen der Frauen» («Женская ложь»), что сразу позволяет предположить особое внимание переводчика к смысловой составляющей произведения.
Исходя из высокого профессионализма и авторитета как переводчика на немецкий язык Ганны-Марии Браунгардт, мы предполагаем оптимальный и выверенный баланс переводческих решений в сегменте противоречий между вариативностью и тождеством имени (сохранением единства наименования) в литературном переводе, а также в зоне несоответствия между типами собственных имен и их организацией в исходном и принимающем языках. При анализе мы исходили из положений Д.И. Ермоловича, детально описавшего принципы и методы формирования ономастических соответствий с учетом межъязыковых различий русского и английского языков [1].
Следует отметить, что разница в онимическом комплексе лица, а именно наличие отчества в антропонимической русской системе, вызывает огромные трудности для немецких читателей при восприятии русских литературных произведений в переводах. В связи с этим переводчики используют различные стратегии передачи русских патронимических имен в переводах на немецкий язык. Например, И. Онхайзер констатировала при сравнении двух переводов на немецкий язык романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» (1958 – перев. Reinhard von Walter, 1993 – перев. Thomas Reschke) существенные различия при передаче русских имён. В отличие от первого перевода в новом немецком переводе имена и отчества сохранены лишь при передаче обращения в диалогах, во всех остальных местах, где Пастернак употребляет имя и отчество, в переводе появляются имя и фамилия без отчества. [8: 70–71]
В литературном переводе Г.-М. Браунгард явно прослеживается приоритет формально-ориентированных принципов при построении ономастических соответствий, игнорирующий сложности восприятия отчеств для немецких читателей. Метод практической транскрипции является ключевой переводческой технологией Браунгардт при передаче трёхчленных, двухчленных и одночленных антропоформ: Валерий Яковлевич Брюсов – Valeri Jakowlewitsch Brjussow ; Анна Вениаминовна – Anna Weniaminowna, Дора Суреновна – Dora Surenowna, Василий Илларионович – Wassili Illarionowitsch ; Никитишна – Nikitischna, Тарасовна – Tarassowna . Компоненты, используемые в дополнение к патронимическому имени и являющиеся маркерами профессионального статуса лица, превращаются в неотъемлемый компонент именования, например, молочница Тарасовна – die Milchfrau Tarassowna. Одночленное именование лица с помощью только отчества в авторской речи оформляется при переводе на немецкий язык определённым артиклем: Ср.: ‘Но Никитишна была умна, дипломатична и наверху имела защиту.’ – ‘Doch die Nikitischna war klug und diplomatisch und besaß zudem einen Schutzpatron ganz oben. ’
Чужеродность и экзотичность русского отчества проявилась даже в переводческой ошибке такого опытного переводчика как Г.-М. Браунгард – герой рассказа «Счастливый случай» Сергей Михайлович Городецкий представлен в немецкой версии как Sergej Mitrofanowitsch Gorodezki.
В отдельном случае орфографическая и стилистическая вариативность отчества одного и того же персонажа в рассказе «Брат Юрочка» передаётся с помощью одной приоритетной формы: две формы – Анна Никитична (правильная орфографическая форма) и Анна Никитишна (разговорная форма, отражённая на письме) – отмечаются в авторской речи, причем второй вариант более частотный в тексте, представлены в немецком переводе только в форме Anna Nikitischna, ориентированной на разговорный формат вне зависимости от коммуникативного контекста. Таким образом, приоритетным для переводчика является в данном случае принцип сохранения более частотной и простой графической формы отчества, отражающей особенности его разговорного произношения. Лишь в одном случае зафиксировано использование переводчиком принципа элиминирования патронимического имени в словосочетании со значением принадлежности – в рассказе «Диана» сочетание дворик Доры Суреновны переведено как Doras Hof.
Итак, отличительный признак социальной вариативности лица, который проявляется в русской антропонимической традиции в использовании отчества в различных речевых (официальном, разговорном и др.) регистрах, а также в авторской речи, сохраняется при литературном переводе на немецкий язык, что свидетельствует в данном случае о приоритете формы (патронимическое имя как соционим) при передаче русскоязычных антропонимов.
В отношении функциональной вариативности русских личных имен и множественности форм именования персонажей в русских литературных произведениях Г.-М. Браунгард выбирает в качестве основного вектора принцип сохранения тождества имени и метод ограничения вариативности ИС, и здесь зафиксированы следующие тенденции:
-
1. Официальные, полные формы мужских и женских личных имен однозначно переводятся с помощью практической транскрипции: Аркадий – Arkadi, Яков – Jakow, Николай – Nikolai, Александр – Alexander, Георгий – Georgi; Анна – Anna, Вера – Vera, Валентина – Valentina и т.д. Полные формы личных имён Л. Улицкая использует чаще в авторской речи, но и в речи персонажей, в непринуждённой обстановке такие формы отмечены даже в отношении новорожденных детей: Ср.: ‘ Хочешь верь, хочешь не верь: с первого часа они друг друга невзлюбили, да так, что и родителей поделили – рыжий Александр выбрал меня, чёрненький Яков – Гошу.’ – ‘Ob du's glaubst oder nicht: sie waren sich von der ersten Stunde an spinnefeind, und zwar derartig, daß sie sogar die Eltern unter sich aufteilten, der rothaarige Alexander entschied sich für mich, der schwarzhaarige Jakow für Goscha.’
-
2. В случае обиходно-нейтральных сокращённых форм личных имен переводчиком также выбирается формально-ориентированный принцип передачи имен: Саша – Sascha, Коля – Kolja, Гриша – Grischa, Женя – Shenja, Надя – Nadja, Катя – Katja и т.д. Появление компонентов, используемых в дополнение к кратким формам имени как маркеров родственных отношений между персонажами, не меняет алгоритм выбора переводческой стратегии : папа Витя – Vater Vitja. Ср.: ‘А тетя Катя Труфанова от немца даже родила…’ – ‘ Tante Katja Trufanowa hat sogar ein Kind von einem Deutschen gekriegt…’
-
3. Неофициальные дружеские и семейные формы личных имён на –ка, характеризующиеся часто как просторечно-разговорные, разговорно-сниженные формы, с оттенком непринужденности, фамильярности, грубоватости [3: 216–217], чрезвычайно активно используются Л. Улицкой как обиходнонейтральные в авторской и в прямой речи, не имеют у неё грубого, разговорно-сниженного или пренебрежительного оттенка. Такие антропоформы можно рассматривать как одну из особенностей авторского ономастикона, однако они игнорируются Г.-М. Браунгард и переводятся за редким исключением соответствующими нейтральными сокращенными формами: Сашка – Sascha, Петька – - 81 -
- Petja, Колька – Kolja, Гошка – Goscha; Надька – Nadja, Женька – Shenja, Нинка – Nina; Лялька Рубашова – Ljalja Rubaschowa, Стелка Коган – Stella Kogan или соответствующими полными именами: Яшка – Jakow, Донька – Donald. Ср.: ‘Деньги Женя дала почему-то Надьке, а сумку – Сашке.’ – ‘Shenja gab das Geld aus irgendeinem Grund Nadja und die Tasche Sascha.’ В словосочетаниях со значением принадлежности сохраняется тот же принцип выбора ономастического соответствия: Нинкин сын, Лялькин возлюбленный, Женькино раздражение – Ninas Sohn, Ljaljas Geliebter, Shenjas Gereizheit.
-
4. Русские экспрессивно-окрашенные и не нейтральные формы личных имён с уменьшительно-ласкательными суффиксами Тимоша, Надюша, Лялечка, Женечка, Машенька переводятся Г.-М. Браунгард как правило путём практической транскрипции: Timoscha , Nadjuscha, Ljaletschka, Shenetschka, Maschenka . Следует отметить, что в исходном авторском тексте это во всех случаях употребление имён в прямой речи, в диалогах персонажей. Ср.: ‘ Ну не реви, Надюша .’ – ‘Nun heul doch nicht, Nadjuscha.’ В редких случаях переводчик отклоняется от транскрипционного принципа, что имеет в каждом случае свое логическое объяснение. Например, переводчик ограничивает формальную и прагматическую дифференциацию имени в пользу уже используемых экспрессивно-окрашенных форм. Ср.: ‘ Надечка, ты что? Что с тобой?’ – ‘ Nadjuscha, was ist denn? Was hast du? ’ Или другой случай – при употреблении ласкательных имен в авторской речи функционально-стилистическая коннотация имени стирается, соответственно она игнорируется переводчиком, и суффикс при переводе элиминируется. Ср.: ‘ Сашенька вел себя идеально: никаких истерических припадков, которые так беспокоили и Женю, и врачей.’ – ‘ Sascha benahm sich geradezu ideal: keinerlei hysterische Anfälle, die Shenja und den Ärzten solche Sorgen machten.’
-
5. При переводе усечённых форм имён при обращении Жень, Надь, Людо к переводчик однозначно основывается на сохранении тождества имени и во всех случаях игнорирует стилистический оттенок неофициального, доверительного и тёплого обращения, выбирая соответствующие обиходно-нейтральные сокращённые формы: Shenja, Nadja, Ljuda. Ср.: ‘Ты меня так выручила, Жень .’ – ‘Du hast mir so geholfen, Shenja .’
Таким образом, профессионализм и чувство двух языков предопределяют в переводческой деятельности как межъязыковой коммуникации индивидуальный выбор языковых средств в коммуникативном акте перевода. Из множества переводческих решений формируются определенные тенденции и принципы перевода. Тождественность имени и ограничение вариативности именования лица является ключевым принципом создания ономастического соответствия в литературном переводе с русского на немецкий язык. При этом предпочтение отдается прежде всего нейтральным официальным и обиходно-нейтральным сокращённым именованиям лица в их практической транскрипции. Редукция вариативности именования лиц отмечается при множественности авторского социально-функционального именования персонажа. Чем многобразнее ситуации и социальные отношения, которые характерны для персонажа, тем богаче исходная вариантность имён, которая не прозрачна для немецкоязычного читателя. При переводах сохраняется формально-ориентированный принцип прежде всего в отношении прагматически маркированных, экспрессивно-окрашенных гипокористических имен с суффиксами субъективной оценки, исполь- зуемых в основном в прямой речи персонажей. Для патронимических имён, несмотря на их «экзотичность» для немецкой антропонимической системы, выбирается метод практической транскрипции.
Список литературы Проблема вариативности русских литературных личных имен в переводческом аспекте
- Ермолович Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. М.: Валент, 2005. 416 с
- Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. М.: Академия, 2003. 192 с.
- Русская грамматика. В 2-х т. / Редкол.: Н. Ю. Шведова (гл. ред.) и др. М.: Наука, 1980. 710 с.
- Сапожникова Л.М. Проблема вариативности русских и немецких личных имён в аспекте социоономастики // Вестник ТвГУ. Серия: Филология. 2018. № 2. С. 118 -124
- Суперанская А.В., Суслова А.В. О русских именах / 5-е изд., перераб. СПб.: Авалонъ, Азбука, 2010. 304 с.
- Улицкая Л. Сквозная линия: повесть. Рассказы. М.: Изд-во Эксмо, 2002. 256 с.
- Hagi S. Aleksandra Marinina und ihre Krimis // Osteuropa. 2000. № 3. S. 304-310
- Ohnheiser I. Имена, имена, имена... Передача русских имён в немецких художественных переводах как межкультурный феномен // Innsbrucker Beitrage zur Kulturwissenschaft: Slavica Aenipontana / C. Engel, R. Lewicki (Hrsg.). Bd. 12. Innsbruck, 2005. S. 67-87.
- Ulitzkaja L. Die Lugen der Frauen. Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt. Carl Hanser Verlag, 2003. 163 S. / URL: https://epdf.tips/die-lgen-der-frauen.html (дата обращения: 20.01.2019).