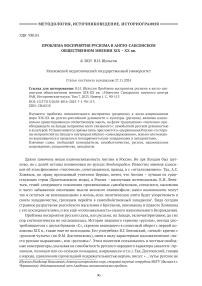Проблема восприятия русизма в англо-саксонском общественном мнении XIX-XX вв.
Автор: В.Н. Шульгин
Рубрика: Методология, историография, источниковедение
Статья в выпуске: 1 т.7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Изучается проблема положительного восприятия (рецепции) в англо-американском мире XIX-XX вв. русско-российской духовности и культуры (русизма), включая национально ориентированную отечественную мысль, на фоне традиционно «численно» преобладающего на Западе неприятия всего связанного с самобытной русской духовностью и культурой. Устанавливается прямая связь пресловутого «сдерживания России» со стороны неприятелей на Западе и внутрироссийского «самосдерживания», вольно или невольно вершившегося в прошлом и поощряемого ныне западниками и западнистами.
Свободный консерватизм, самобытничество, русизм, национальное возрождение, западничество, западнизм
Короткий адрес: https://sciup.org/148330688
IDR: 148330688 | УДК: 930.85 | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-1-90-113
Текст научной статьи Проблема восприятия русизма в англо-саксонском общественном мнении XIX-XX вв.
Давно замечена некая взаимосвязанность Англии и России. Не зря Лондон был шутливо, но с долей истины поименован по-русски Лондонградом . Известны мнения классиков об этом феномене «тяготения», сочетающегося, правда, и с «отталкиванием». Так, А.С. Хомяков, по праву признанный учителем Церкви, почел, что Англия – лучшая из существующих стран (Христианского мира), а Россия – наилучшая потенциально. К.Н. Леонтьев, гений следующего поколения просвещенных самобытников, согласился, напомнив и часто забываемое окончание мысли великого славянофила: наши возможности могут так и остаться не воплощенными в жизнь, если политическая элита будет упорствовать в своем западничестве, грозящем перейти в самоубийственный западнизм1. Видя сегодня странное разрастание российского населения в Британии, понимаешь и правоту Хомякова с его последователями, и все ещё «потенциальность» нашего национального Возрождения.
Проблема восприятия русского духа, или русизма, на Западе, включая Британию, до сих пор систематически не исследовалась. История знакового термина «русизм», иногда употреблявшегося с двумя буквами «С», скромно вошедшего в словесный оборот с первой половины XIX в., также еще не возсоздана. Его употреблял В.Г. Белинский, «левый» критик с «русским чутьем» (по Ф.М. Достоевскому), имея в виду характерные идиоматические «чисто русские выражения», или «русизмы»2. Этим понятием пользовались и честные свободные консерваторы, указывая на самобытность русского народного характера (аналоги: германизм , полонизм или по-польски польщизна , американизм и т.п.). Так, Достоевский, говоря о народе, удивленном прозападной подража тельностью верхов, писал: «… чутье русское не Шульгин Владимир Николаевич, доктор исторических наук, старший научный сотрудник МПГУ (Филиал в г. Черняховске); действительный член Академии геополитических проблем.
умирало: русская душа <…> протестовала именно во имя своего русизма …»3. К.Н. Леонтьев заметил: «Идея Православно-культурного руссизма действительно оригинальна, высока, строга и государственна» в отличие от «Панславизма», реплики «утилитарного» Европеиз-ма4. Наконец, В.В. Розанов, также мыслитель Русского направления, вторил им: «Пушкин был <…> “русский”, без иностранного. Это мило нашему сердцу, и мы гордимся и радуемся <…> сему качеству <…> русизма …»5.
Проблематика данной работы – составная часть более общего вопроса о положительном и отрицательном восприятии России (с ее цивилизующими особенностями) Западом. Отдельные наблюдения о положительном, хотя подчас лишь частичном восприятии русизма англо-американскими авторами не систематизировались и не обобщались. Однако их достаточно, чтобы приступить к решению заявленной исследовательской задачи. Есть и ценные смежные исследования об особенностях менталитета Русских и Англичан6, например, труды Т.Л. Лабутиной и Т.В. Лариной7. Их работы помогают изучению рецепции русизма в Англо-Саксонском мире и на Западе в целом.
Названной проблемы касались и наши дореволюционные классики. Они сравнивали характеры разных этносов, видя, как отдельные представители Запада тянутся к Русским как обладателям чего-то «общечеловечески» важного, но отсутствующего у них. Так, В.В. Розанов поведал в 1915 г. об одной американке, разговорившейся с его знакомыми в германском санатории (до войны), узнав, что те русские. Американка поделилась своим восхищением от творчества И.С. Тургенева, открывшего ей совсем другой мир, в отличие от США, не поглощенный проблемами «промышленности и торговли». Розанов заметил: читая Тургенева, «все русские песонажи, русская жизнь, русские особенные понятия – ей сделались “своими”, гораздо более понятными и близкими, нежели американские…»8.
Пишущий эти строки впервые задумался о проблеме рецепции русизма на Западе в начале 1990-х (еще молодым кандидатом наук), читая в имперской Публичной библиотеке замечательный труд Элеоноры Шумахер (1939–2021) «Град в огне», до сих пор у нас не переведенный9. Немецкая христианка задумалась о природе Революции 1917 г., восприняв русскую духовную традицию XIX в., справедливо усматривая главную причину Революции в отходе политической элиты Империи от собственных народно-православных начал. Следуя за Ф.М. Достоевским, она узрела в «полуобразованной» революционной интеллигенции ложную новую элиту, поскольку та оторвалась от русских духовных основ, составив «Орден» разрушителей. Э. Шумахер полюбила дух христианской России, положительно восприняв наследие Н.М. Карамзина и последующих представителей нашей христоцен-тричной традиции. Так, она заметила, что «воссоединение» с Западной Европой, предпринятое Петром I, «стало для России катастрофой», открыв проникновение атеизма, позитивизма, либерализма и нигилизма10.
Замечательно, что Э. Шумахер дала прогнозы о будущем, абсолютно тождественные Ф.М. Достоевскому, К.Н. Леонтьеву и В.В. Розанову. Большевизм, писала она, – это картина «возможного западного будущего», поскольку Запад «живет практически атеистической жизнью, нравственно пал, охвачен жаждой материальных наслаждений»11. Рецепция духа русизма привела исследовательницу и к выводу о необходимости для России духовно «вернуться к самой себе», перестав блуждать «по всем временам и культурам», усваивая «чуждые» традиции. Это «возвращение» помогло бы и падшему Западу вспомнить о потерянной им Правде12. Читая столь глубокую книгу13, рождалась мысль о возможном наличии и в Англо-Саксонском мире подобных работ, проникнутых духом рецепции наследия русской христоцентричной традиции. Позже это предположение подтвердилось.
С другой стороны, очевидно, что на Западе всегда преобладал либо всецело русофобский подход в оценке России и Русских, либо, так сказать, «объективистский», но также содержащий изрядную долю антирусского нигилизма. Для примера взглянем на статью об И.С. Тургеневе в главной британской энциклопедии. Постоянное жительство писателя на Западе объясняется «отчасти его личными и художническими позициями либерала, находившегося посередине, между реакционным царским порядком и духом революционного радикализма, господствовавшего (that held sway) в тогдашней среде деятелей искусства и интеллектуалов России»14. Видим здесь по меньшей мере две грубых ошибки. Они свидетельствуют о полном непонимании автором истории России. Во-первых, Россия при Александре II вступила на путь либеральных реформ западного типа. Но и при Николае I наша Империя не была «реакционной». Это было христианское государство, однако с прозападным «ментальным» уклоном, приданным ему в конце XVII в. Петром I, что породило «системное» социокультурное противоречие, требовавшее своего разрешения. Во-вторых, господствующее направление среди деятелей русской культуры, включая мыслителей, было христоцентричным и национально ориентированным, а не «революционным», о чем свидетельствует творчество Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина и других представителей Русской традиции, вплоть до Ф.М. Достоевского и т.д.
Отечественная трагедия состояла в том, что верховная власть шла не национальным, а полузападным путем, что и создало условия углубления социокультурного кризиса, а не его разрешения на собственных духовных православно-христианских основах, к чему звали названные классики и вся наша полнота. К сожалению, Запад в его целом не желает уловить этой сути нашей Новой истории, о чем и свидетельствует цитированная «Британника». Тем ценнее наличие на Западе (особенно в наиболее враждебной для нас Англо-Саксонской его части) представителей христианского воззрения, воспринимающих Историческую Россию законной частью изначально единой Христианской Цивилизации, определившей первоначальную историю нашего общего континента. Этим также отчасти объясняется обращение к теме рецепции русского духа на Западе.
Однако сперва следует сказать об одном отечественном обстоятельстве, препятствующем Англо-Саксам и прочим людям Запада положительно воспринимать Россию. К сожалению, оно плохо улавливалось политиками XIX–XX вв., что препятствовало чаемому национальному возрождению с исправлением прозападного «петровского крена».
ФЕНОМЕН САМОСДЕРЖИВАНИЯ РОССИИ КАК ФАКТОР ЕЕ СДЕРЖИВАНИЯ СО СТОРОНЫ ЗАПАДА
Утверждение, здесь отстаиваемое, таково. Русское самосдерживание на протяжении трех последних веков способствует сдерживанию нас Западом . Это тем более very dangerous , что Британия и Запад не стоят на месте. Они превратились из Христианского сообщества в единое безбожное (в своем ядре) Сверхобщество 15. Эти «две разницы» между прошлым и настоящим Альбиона очевидны. Так, лорд Дж. Аберди́н в XIX в., имея христианское чувство, каясь в греховной политике своего кабинета, отказывался, несмотря на обет, возводить часовню в своем имении, боясь гнева Божия. После смерти у него в одежде были найдены многочисленные бумажки с одной и той же Ветхозаветной цитатой (1 Пар. 22: 7-8) о Воле Бога, запретившего царю Давиду строить Храм «потому что пролил много крови на землю пред Лицом Моим». Лорд Аберди́н завещал сыну выполнить обет по возведению часовни, которую сам он не строил по «соображениям Соломоновым» (Давид заповедал Соломону строить Храм)16.
Теперь взглянем на сегодняшнюю, уже «многонациональную» Британию, сменщицу старой – христианской. Школьные учителя там должны скрывать веру отцов, а государство обязано поощрять содомию. Таким образом, общеевропейское положение духовно и нрав- ственно многократно ухудшилось. Прежде Россия, исказив лик Царства прозападной подражательностью Петра I, стала великой державой. Она заставила Запад считаться с собой17. Сегодня этот Запад, воспользовавшийся непродуманным отступлением России, вернулся к своим повадкам XIII-XVII вв., всеми своими силами мешая России вернуться к своему истинному облику единой Трехчастной государственной общности – Великорусской, Малорусской и Белорусской. Это и есть политика западного сдерживания России. Однако, и мы сами «смирением», «вредным» в политике, на что указал еще Н.М. Карамзин, невольно содействуем Западу. Ибо, по слову этого классика, «кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут»18. Таким образом, наше добровольное самосдерживание торит дорогу сдерживанию извне.
Феномен «самосдерживания» с его самоубийственными потенциями давно замечен представителями Русского направления мысли, начиная с М.В. Ломоносова, бравшего иногда в руки дубину, чтобы поучить возможностям русизма иного «академического» немца. Затем Д.И. Фонвизин много внимания уделил отстаиванию культурных и бытовых прав русских людей на обладание собственными инстинктами и обыкновениями. Это – очевидный подтекст его комедии «Бригадир» и «Писем» из Франции. Наконец, уже цитировавшийся великий Н.М. Карамзин описал феномен столь опасной политической смычки са-мосдерживания со сдерживанием, когда первое из них способствует второму. Он убеждал в «Записке о Древней и Новой России...» 1811 г. и т.п. сочинениях, что русский человек должен знать себе цену . Историограф указывал, что разного рода соседи наши, другие «европейцы», во многом чужды нам, ибо имеют иные «народные характеры». Поэтому «что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле», и, например, британские гражданские обыкновения благоприятны лишь у себя дома. Посему русскому человеку невозможно «жить» в Британии «для удовольствия общежития»19. На этом основании Карамзин учил соотечественников не скромничать и не самосдерживаться в отстаивании своих жизненных начал и интересов и не тратить силы на укрепление безопасности чуждых народов – Немцев, Англичан и т.д.
Позднее этим воззрением, ставящим во главу угла дух народности, руководствовались все представители Русского направления , от А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева через славянофилов А.С. Хомякова и т.д. до К.Н. Леонтьева, Ф.М. Достоевского и В.В. Розанова. Так, Тютчев эту идею проводил в стихах, письмах и политических статьях. Он показывал, что «гордый взор иноплеменный» не поймет жертвенного христианского характера Русского народа. Посему нельзя «верить чужим»20. Более того, Заграница в духе своего эгоизма сочтет такое поведение Русских за глупость и начнет использовать его в своих русофобских инстинктах. Ведь Запад всегда хотел ослабления России, втягивая нас в ненужные войны и т.п. акции. Поэтому поэт-мыслитель Тютчев, как и его прямые предшественники Карамзин и Пушкин, всячески отстаивал мысль о политическом вреде русского самосдерживания, настаивая, что России нельзя стесняться отстаивать свои исторические права . Ведь в этом недопустимом случае уклонения быть самими собой неприятельский Запад непременно воспользуется нашей недопустимой стеснительностью и станет навязывать свою волю. Фактически это было повторением, вместе с усилением, мысли Карамзина о вреде смирения в политике. Тютчев призывал противостоять «умственному безстыдству» и «духовному разложению» Запада21.
К сожалению, для нашей все усиливавшейся в своем радикализме дореволюционной интеллигенции меткое русское слово классиков-самобытников было малодоступно из-за вредительской цензурной политики. В итоге дерзновенная молодежь, отлученная от засекреченных политических свободно-консервативных произведений Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, П.А. Вяземского, Ю.Ф. Самарина и т.д., принялась искать правду у западных энергичных радикалов и русофобов, дойдя наконец и до Кар- ла Маркса, породив и своих радикалов, представителей западнического по типу воззрения (Н.Г. Чернышевский и его школа). Словом, русское самосдерживание было еще и потенциально самоубийственным. Вину за страшную политическую ошибку запретительства свободы патриотических мнений несут «официальные консерваторы» XIX в., охранители подражательной «петровской системы». Они боялись свободного слова консерваторов-самобытников, выступая фактическими союзниками дерзновенно-безбожных радикалов, правда, не понимая этого. Поэтому, как метко подметил К.Н. Леонтьев, русским честным людям дороже честный католик, магометанин или буддист, чем «многие и многие русские» (в верхах и интеллигенции) «неопределенного цвета и того лукавого петербургского подбоя, которые теперь вопиют против нигилизма, ими же самими исподволь подготовленного»22.
Тут мы подходим к объяснению тех «российских» обстоятельств, толкавших западных наблюдателей ко всякого рода русофобским суждениям о России. Конечно, нельзя забывать и о намеренной тенденциозности целого ряда англичан или ученых, натурализовавшихся в Британии, сознательно искажавших факты Русской истории. Однако, повторю, мощной движущей силой западной русофобии было безмерное подражательство петербургской политэлиты, востребованное силой Петра I. Н.М. Карамзин писал в секретной «Записке…» 1811 г., что «искореняя» русские обычаи и «…вводя иностранные, Государь России унижал россиян в собственном их сердце». И задавал вопрос: «Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам?». Ответ известен. В едином прежде народе «высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия …» сословий23. Естественно, Заграница все это замечала, и у нее не прибавлялось уважения к России из-за «распластанности» верхов перед Западом. И лишь, очевидно, меньшинство иноземных наблюдателей не смешивали ошибок западничества Петра и их укоренение в русской жизни XVIII–XIX вв. с мнением о некоей внутренней поврежденности России и русских, у которых якобы недостает собственной культуры.
К сожалению, ни Карамзину, ни его последователям (Пушкину, Тютчеву, Славянофилам и Почвенникам) не удалось побудить политэлиту «вернуться духом в Русский Дом». Это дало основание К.Н. Леонтьеву, опираясь на предшественников, печально констатировать в конце жизни:
«Вера у нас греческая издавна; государственность со времени Петра почти немецкая (см. жалобы Славянофилов); общественность французская; наука – до сих пор общеевропейского духа. – Своего остается у нас почти только один национальный темперамент, чисто психический строй ; да и тот действительно резок только у настоящих великороссов, со всеми их пороками и достоинствами. – И малороссы, и белоруссы со стороны “натуры”, со стороны личных характеров гораздо менее выразительны <…> Аксаков сказал прекрасно: “Умирать (на поле брани) мы умеем как русские, но мы не умеем жить как русские”»24.
Об этом феномене унизительно-недопустимого подражательства К.Н. Леонтьев говорил постоянно, как и затем его соратник В.В. Розанов, печалившийся, что Россия «извертелась в чужих формах». Читаем, например, вновь у Леонтьева: «Правда, мы создали великое Государство ; но в этом царстве нет своей государственности », подобной по свое-бытности той, что «была в языческом Риме, Византии, в старой монархической Франции <…> и в Великобритании»25. Подобные заключения были типичными для «национальноориентированных» великороссов. Так, генерал А.А. Игнатьев сокрушался о германофилии верхов Империи в XIX веке: «Российская Империя Николая I и Александра II систематически онемечивалась…»26. Кстати говоря, видим здесь очередные повторения мысли А.С.
Хомякова о лишь потенциальных возможностях торжества русско-российской самобытности. При том что в Англии эта оригинальность национальная давно реальна27. Так, Леонтьев указал, что протестантская революция с «возмутительной» казнью Карла I имела для Англии и благое « обособляюще-национальное, своего рода консервативное значение »28.
Революция 1917 года была явным свидетельством того, что «возродительной» перемены на истинно Христианских основаниях монархическая Россия в XIX - начале XX века так и не дождалась. Полученная же поистине сверхоригинальность Советской России в виде «СССР» покоилась на духовной лжи безбожия и дерусификации, потому новая государственность с отнятым у нее русским именем и оказалась цивилизационным тупиком (последнее здесь обсуждаться не будет).
РЕЦЕПЦИЯ РУСИЗМА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНГЛО-САКСОНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЭЛИТЫ
Становится понятным: именно феномен самосдерживания Старой России препятствовал Зарубежью увидеть истинную ее Христианскую сущность. Тем более что среди людей Запада всегда было много внерелигиозных людей, у которых по определению был сужен угол зрения (недаром Тютчев и писал о «гордом взоре иноплеменном», не замечающем у нас самого главного на Руси). Поэтому только гении, вроде Т. Карлейля, умели различить неповторимую самобытность русского духа, высоко ценя его в «леонтьевском» смысле, подразумевающем темперамент народа и его психический строй . Правомерно посему говорить об определенной рецепции русизма Т. Карлейлем, о чем свидетельствует его общение с А.И. Герценом. Причем англичанин выступил защитником царизма, понимая, что русизм столь же оправдан на Руси, как и «британскость» (britishness) на Альбионе.
По словам Карлейля, познакомившегося с нашим радикалом в 1852 г., на него «произвели сильное впечатление» его антизападные работы «С того берега» и «Письма из Франции и Италии»29. Мыслители сошлись в неприятии «ужасов кровавых революций», но разошлись в восприятии демократии и социализма30. Об этом свидетельствует письмо Карлейля Герцену от 13 апреля 1855 г., опубликованное Эд. Карром31. В переводе на русский оно было помещено в «Былом и думах»32. Карлейль высоко оценил «трагическую честность» Герцена, отвергая его революционаризм, выступая апологетом России ввиду духовной деградации Запада. Он писал:
«…я несравненно больше предпочитаю именно Царизм <…> той чистой анархии… рождающейся от “парламентского красноречия”, свободной прессы и подсчета голов <…> В вашей огромной стране, которую я всегда почитал огромным, неясным “Даром Провидения” <…> очевиден один талант, в котором она первенствует и который дает ей мощь, далеко превосходящую другие нации: это <…> талант смирения , который именно сейчас вышел из моды <…> нисколько не сомневаюсь, что отсутствие его будет, рано или поздно, вымещено до последнего фартинга…»33.
Т. Карлейль предвосхитил многое из того, что позднее скажут немец О. Шпенглер и француз П. Валери́, обратившие внимание на духовную, а следовательно, и политическую деградацию Запада. Выражение Карлейля the talent of obeying, характеризующее важнейшее достоинство русского народа, очевидно, уместнее перевести как талант смирения. Это выражение представляется более точным, чем «талант повиновения» в переводе письма, помещенном в «Былом и думах», поскольку Карлейль имел в виду именно сохранившееся в России живое христианское чувство (Ср.: Мф., 11-29).
Апологетические суждения Карлейля о России были не случайными. Об этом сказал американский консерватор Р. Эмерсон, давний друг Карлейля. Выступая в Бостоне после его смерти в 1881 г., Эмерсон обратил внимание на христианско-монархические воззрения Карлейля. Тот, по свидетельству американца, с надеждой взирал на Россию:
«Он относился к ним (демократам. – В.Ш.) с презрением <…> они восхваляли республики, а он любил Русского Царя…». Эмерсон вспоминал: «Царь Николай был его героем. В безславной Европе, где троны падали как карточные домики и не находилось никого из монархов, кто обладал бы сознанием своей правоты <…> лишь он один верил, что поставлен Господом Вседержителем править своей Империей <…> имея решимость стоять до конца»34.
Итак, Николай I был единственным героем 1848 года для «серьезного» Карлейля, взывавшего к Провидению. Суждения Карлейля и Эмерсона убеждают, что христианские консерваторы России и Запада ценили в Герцене критика политического либерализма, отвергая его неприятие законной Христианской государственности. Попутно уместно заметить, что русские консерваторы-самобытники смыкались с Герценом в критике остзейского уклона Николая I. Однако А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, И.В. Киреевский и все свободные консерваторы, в отличие от Герцена, никогда не делали вывода о необходимости Революции на основании отхода верховной власти от русской идеи . Наоборот, они ощущали богодухно-венность монархии, фиксируя недопустимое ее отклонение от духа народности , и боролись за исправление положения, за возрождение самобытного Царства. Частично это настроение было характерно и для Т. Карлейля, ему сочувствовал и американец Р. Эмерсон.
Мысли Карлейля перекликаются с думами П.Я. Чаадаева и выводами русской свободно-консервативной мысли в целом. Их общей основой было Христианство. В «Апологии сумасшедшего», письмах к Пушкину и т.д. Чаадаев утверждал, что русские «призваны… ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество». Предшествуя Карлейлю, он указывал на «великое будущее» России, обеспеченное ее церквовью, «столь смиренной», подчас «столь героической». На Запад же «надвигается ужасная гибель». Должен родиться «новый мир» во Христе. Роль России ключевая: «русский народ, великий и мощный, должен <…> не подчиняться воздействию других народов, но с своей стороны воздействовать на них». Россия, писал Чаадаев Тютчеву, должна осознать православную « великую идею », «заложенную в нашу душу рукой Провидения» вместе с « пристрастием к самоотвержению и самоотречению »35.
Видим, что добросовестные западные консерваторы не соблазнялись русофобскими заключениями о Русском народе, даже зная о прозападном уклоне правящей «петровской элиты» Российской империи. Для них была характерна определенная рецепция русизма с признанием особых, невиданных на Западе народных свойств Русских, христианизировавших свой нравственный строй в некоторых отношениях неизмеримо сильнее, чем другие народы. Они не смешивали «дух господствующей народности» России с отклонением от него правящих кругов . То же видим и в веке XX-м. Несмотря на ужасы Революции и Гражданской войны иные английские и прочие западные наблюдатели не ставили происшедший перелом в прямую зависимость от народного русского характера, якобы предполагавшего такую ломку. Они понимали, что политическая элита, оторвавшаяся от духа народности, а именно – наши имперские верхи XIX века, сами в годину испытаний более всего провоцировали народные эксцессы36.
Сошлюсь на письма Р. Киплинга, посланные им русскому писателю И.С. Шмелеву. О них известно из обширной переписки Шмелева и И.А. Ильина37. В марте 1924 г. Р. Киплинг откликнулся на вышедшую по-английски повесть «Это было» о России времени Гражданской войны. Английский национальный писатель выразил чувство признательности Шмелеву за присылку ему этого произведения, «интересного» и «одновременно страшного и сурового» («horrible and exacting»). Контекст лаконичного письма свидетельствует о понимании Р. Киплингом всемирного значения Русской революции, являющейся отражением глобальных духовных проблем (здесь полная аналогия с предвидением Н.М. Карамзиным глобальных последствий Французской революции). Великий англичанин без следов типичной заморской русофобии38 пишет:
«С западной точки зрения, эта повесть, как сказал Эдгар По “вне пространства и вне времени”, но в ней ощущаются возможности, которые однажды могут стать ужасающей действительностью и других стран»39.
Видим, что Р. Киплинг не вычеркивает Россию из числа христианских стран, вместе пораженных одной и той же болезнью кризиса духовности, в конечном счете и определившего случившееся «страшное» в России, от чего Запад также нимало не застрахован. Этот способ разсуждений английского классика также свидетельствует об определенной рецепции русского логоса , столь мощно проявившегося в XIX-XX веках в творчестве наших классиков мирового значения, одним из которых, бесспорно, был И.С. Шмелев40.
Мировая трагедия сначала Французской, а затем и нашей революции, слившихся в единый процесс изгнания Христианства из политики и жизни, привела Русских к лучшему пониманию людей Запада. В одном из январских 1934 г. писем И.С. Шмелев помыслил о последствиях раннего выпадения стран Запада из-под Христианского омофора и необходимости познания духовной силы России. Мысль – прямо «карамзинская». Читаем: мы «предполагаем в европейцах каких-то “старших братьев”, а они – многие-многие – и в сравнение не годятся даже с рядовым русским народным человеком . Слишком они ве-щевики, ползунки»41. Позднее Шмелев продолжил эти размышления. В августе 1931 г. он сообщил об обращении к нему американского издателя, интересовавшегося отношением Шмелева к западной цивилизации. «Какая, к черту, цивилизация…», – в сердцах восклицает писатель, имея в виду духовную гибель Запада: «Плюю на такую цивилизацию», идущую «сатане прямо в лапы». Нечего удивляться: «…такие деятели Ивропы! Без Бога, без души <…> Кто смеет сказать, что Достоевский не предрек?! Давно, 60 л. тому предрек. В “Подростке” (сказочки Версилова) [читаем, что] только… не “прижмутся” друг к другу от тоски и жалости, а пожрут друг друга . Пусту́ быть миру!»42.
Тем замечательнее, что честные христиане Запада тянулись к правдивому русско-православному слову, приобретшему особую мощь вследствие трагических испытаний безбожием Революции, вылившихся в Гражданскую войну и «раскрестьянивание» великого народа. Отсюда и проистекла тяга к рецепции русизма у вдумчивых верующих людей Запада в межвоенный период, да и после Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, приводимые в обширной переписке И.С. Шмелева и И.А. Ильина. Так, голландская писательница Clemence Bauer , полюбив нашу литературу, в течение двух лет освоила русский язык. В 1934 г. она с увлечением прочла вышедшую часть «Лета Господня», повествующего о годовом круге христианских праздников Руси, и, «прямо очарованная», решила ее переводить. Она просила благословения у Шмелева, сообщив, что поражена силой и красотой русского языка. Писатель писал об этом И.А. Ильину, прибавляя: «Это для меня большое счастье: “Лето Господне” – в художественном переводе – писателя»43.
Эта писательница и переводчица взяла на себя и защиту авторских прав И.С. Шмелева. Она сообщила писателю, что одно голландское издательство самовольно выдало его известное произведение, еще дореволюционное, – «Человек из ресторана», и она направила протест издателям-контрабандистам. Шмелев в августе 1934 г. делится этими новостями с И. Ильиным, удивляясь недобросовестности издателей-голландцев, которые «…ни копья не заплатили <…> и книжки не прислали»44. Писатель был тронут вниманием западной христианки, полюбившей Русский народ в его истинном духовном облике. Он писал о ней Ильину:
«Любит Россию! нашу … И это благодаря нашей литературе! Через нее! Она выучилась (у эмигрантов) языку, и теперь для нее Россия – выше всего. Она хочет проникнуть “в ее чарующую мистическую душу” <…> Чудесное письмо (русское) написала мне! Вот что делает Слово ! Да, да, да: Россия невидимо оживает и проявляется в мире. И – проявится истинная! Вот тогда, может быть, понятна будет вся пролитая кровь, все слезы… все неправды… Рождение в муках – для мира, для научения, для оправдания, для искупления его»45.
Подобные случаи положительного восприятия просвещенными людьми Запада духа русизма не были единичными. Так, Г. Гессе отозвался рецензией на повесть «Под горами» Шмелева. Он увидел в ней проявление лучших традиций «великих русских прозаиков»46. Затем профессор Сорбонны Ю. Леграс ( Jules Legras ), также владевший Русским, написал Шмелеву письмо признательности, назвав «восхитительной книгой» его «Лето Господне» и сообщив, что собирается «писать о ней в <…> журнале»47. Подобной же была восторженная реакция Т. Манна на повесть «Под горами»48.
Исследователям, если будет суждено дальнейшее изучение темы положительного восприятия (рецепции) русизма на Западе, ещё предстоит сравнить ее степень в разных странах Европы и Америки. Очевидно, что наиболее затруднительным было это восприятие в большом Англо-Саксонском мире (на пару с Французским), вышедшем на первое место по материальной силе на Западе после Первой мировой войны. Русские, по своей доверчивости и снисходительности, далеко не всегда учитывают, так сказать, «корневую» враждебность к себе народного англо-французского «ядра» Запада, инстинктивно отвращающегося от положительного восприятия русизма. Приведу показательный пример. Так, Стендаль, французский классик и участник наполеоновского похода Запада против России в 1812 г., цинично заметил:
«Мысль о войне с Россией, осуществленная императором [Наполеоном], была популярна во Франции <…> Всем монархам нужна была успешная война с Россией, чтобы отнять у нее возможность вторгнуться в среднюю Европу. Разве не было естественным воспользоваться в этих целях моментом, когда Францией правил великий полководец, своим искусством возмещавший огромные невыгоды положения этой страны?»49.
В самой Англии, а затем и в США господствовали тождественные захватнические настроения. Пока Россия была единственной сверхдержавой после единоличных побед над Западом в 1812-1815 гг., планы агрессии откладывали, находя силы вымучивать из себя нечто уважительное и даже молвить полудобрые слова. Англичане назвали Александра I «хозяином Европы» (The Master of Europe)50. Американец тех дней А.Х. Эверетт признал, что «Россия сразу стала не только ведущей страной, но, по своему существу и воздействию, – руководящим государством»51. При Николае I видим то же, однако с изъявлением уже и традиционных намерений. Так, после визита царя Николая I в Англию королева Виктория писала о впечатлениях своему дяде, бельгийскому королю Леопольду, что «очень красивый» русский император «отменно учтив – любезен и внимателен до такой степени, что это внушает тревогу», а «выражение его глаз пугает». Дальнейшее повествование королевы несколько проясняет причины ее «тревоги» и «испуга». Виктория пишет: «Когда я думаю, что мы сидим за завтраком или идем на прогулку с величайшим на земле властелином, это кажется мне сном»52.
Супруг королевы принц Альберт испытывал те же чувства по поводу визита монарха страны «с безграничной территорией и устрашающей мощью». Он писал: «император Николай – хозяин Европы »53. Понятно, что «владычица морей» Британия, а затем и ее североамериканский клон – США, сами хотели властвовать в цивилизованном мире. Они «забыли» об искомом его нормативно-христианском единстве, отрицающем войну внутри себя. Поэтому, кстати говоря, королева Виктория внимательно отслеживала «нередкие промахи» Николая I в виде его «искренности» и «откровенности». Этими, как считала королева, просчетами царя Англия и намеревалась воспользоваться при случае. В письме к Леопольду, опираясь на наблюдения, она даже заключила, русофобствуя, что русский император «не очень умен, не слишком хорошо воспитан и недостаточно образован»54. Конечно, какой же западный правитель будет столь чистосердечен, как русский царь, стремившийся к Христианскому единству всей Европы?! Запад, извративший свою когда-то верующую душу, желал всемирной власти, а не христианского братства, на что наивно рассчитывали русские цари Александр и Николай.
Тем важнее для нас проявления рецепции русизма в англо-саксонском «ядре» Запада, которая продолжилась и после Второй мировой войны. Так, американка Сюзанна Масси Suzanne L.Massie (1931-2025) , слышавшая много хорошего о Русских от своей матери, увлеклась Русской историей и культурой, написав замечательную книгу «Земля Жар-птицы. Краса былой России», опубликовав ее в США в 1980 г. ( «Land of the Firebird» ). Эта работа получила возможность появления вследствие краткого потепления российско-американских отношений после поражения США во Вьетнаме в середине 1970-х гг. США тогда временно отступили от генерального плана устранения «Большой России» как сверхдержавы-сопер-ницы55 (напоминая поведение Англии за десять лет до Крымской войны, когда Николая I с помпой встречали в Лондоне). С. Масси, плененная русским искусством, прочла цикл лекций в музее «Метрополитен». Они и легли в основу книги о русской культуре56.
Христианка С. Масси руководствовалась теми же критериями, какие были характерны для ее вышеупомянутых предшественников, – Т. Карлейля, Р. Эмерсона и других. Она сумела различить главное в великом Русском народе – его замечательный характер с христианской духовностью, которую на Западе далеко не все стремятся узреть, оправдывая свой «односторонний подход» «мрачными страницами русской истории», беря пример с «советских» исследователей57. Рецепция русизма у С. Масси очевидна. Она сама обращает внимание на это во введении к своему труду:
«Русская культура может многое дать нам <...> Жители России <_> отчетливо осознают поразительную склонность души к любви и самопожертвованию <_> Они знают, что такое долготерпение, данное от Бога каждому из нас, но утраченное в погоне за немедленным воздаянием в ответ на содеянное добро. (В русском языке нет слов, адекватных английским frustration и sophistication*, и даже этот штрих свидетельствует о глубоком различии наших культур.) Русские ценили смирение <_> В России к поэтам и поэзии относились с особым благоговением <…> В этой стране очень хорошо знали, что такое страдание, умели понять человеческие слабости, и романы XIX века, написанные в России, - возможно, величайшее достижение мировой культуры. Русские <^> превратили балет в возвы- шающее душу искусство <…> Их музыка волновала человеческие сердца во всем мире. Это торжество красоты <…> порожденное особой духовностью русского народа, быть может, и есть то, в чем мы более всего нуждаемся, чтобы найти в себе силы противостоять холоду, безликости и растущей жестокости нашего технократического, прагматичного современного мира»58.
При чтении этих строк становится очевидным капитальный факт положительного восприятия Русской культуры и духовности наиболее духовными людьми Англо-Саксонского мира, этой сердцевины Запада. Столь же очевидна и универсальность положительных оценок тех особенностей русского народного характера, которые по разным причинам утрачены на Западе, как это отметила С. Масси и другие. О смирении и долготерпении как высоких христианских качествах Русских, столь необходимых Христианам, говорил Т. Карлейль, по сути упрекая революционера Герцена в непонимании этого. Суждение о первенстве русской литературы в эпоху модерна стало довольно обыкновенной констатацией у выдающихся западных художников слова и ученых, примеры чего общеизвестны, и некоторые из них приведены выше59.
Однако более типичным для Запада всегда являлась русофобская «наука ненависти» к России, как, во-первых, отдаленное следствие раскола Христианской цивилизации в IX-XI вв., учиненного Романо-Германской Европой, и, во-вторых, как итог добровольной подражательности ей со стороны политической элиты Российской Империи. К сожалению, обличение этого унизительного феномена Н.М. Карамзиным и всей «самобытнической» школой русской культуры, доказавшей, что Запад не уважает тех, кто сам себя не уважает , не было воспринято большинством наших верхов и способствовало вызреванию Революции в России со свержением Христианской государственности в 1917 году.
«УЧЕНАЯ» РУСОФОБИЯ КАК «НОРМАЛЬНОЕ» СОСТОЯНИЕ ЗАПАДА
Итак, нечто противоположное Т. Карлейлю и т.п. авторам мы видим в идеологизированной «исследовательской» и иной массовой русофобской литературе Запада. Важно учесть отличие отправных подходов. Представители «Русского направления» исходили из первичного единства Христианской цивилизации, расколотой Западом. Западные же «уклонисты во Христе», равно как и и «светские» мыслители, а позднее и «бандеро-ориен-тированные» «украинцы», отталкивались уже от наличного состояния разорванности христианской ойкумены с перекладыванием вины «за схизму» на Греков и Русских. Типичный либерально-дехристианизированный западный автор воспринимал отколотую западную часть прежде единой Цивизизации за нечто изначально самостоятельное (так же мнит и типичный бандеровец, веря в первичную, так сказать, «самостийность» «Украины»). Это стало их «аксиомой», о ложности которой «уклонисты» никогда не задумывались. Потому столь же некритически рядовой западный автор считал Россию варварской страной, подлежащей «переформатированию» с расчленением и поглощением по частям.
Ошибочные прозападные составляющие политики Петра Великого еще больше укрепляли «либеральствующих» авторов Запада в этого рода суждениях. Они неверно восприняли суть крепостничества в условиях прозападного крена Петра Великого. Так, Наполеон рассчитывал на капитальный факт раскола русского общества после реформ Петра, внешне онемечивших высшее и среднее дворянство – политическую элиту страны. Однако этот очередной завоеватель переоценил степень западнизации русского общества, сохранившего еще народные инстинкты. Согласимся с Т.Л. Лабутиной, заметившей, что значительная часть «высших слоев» России «оставалась верна своим историческим корням – вере, традициям и укладу жизни»60. Низы в свою очередь были едиными с верхами, еще воспринимая свое «крепостное состояние» родом служения Святой Руси, которой и дворянство служит, но по-военному, будучи к тому призванным. Поэтому, как пишет английская исследовательница, Наполеон, находясь в Москве, «ждал соборных челобитных от крестьянских делегаций, но их не было»61.
Описанная ошибочная «внехристианская» секулярно-обмирщенная парадигма восприятия России неизбежно приводила к извращению исторических фактов. Так, «Британника» в статье о Н.М. Карамзине, помещенной в 11-м издании 1911 г. (в самое «сердечное» время союзной нам «Антанты»!), привела не только тенденциозные суждения, но и прямо лживые. Так, читаем, что наш Историограф якобы «романтизировал» данные «ранних Русских анналов» (то есть летописей, сообщавших о Древней Руси), «скрывая грубость и жестокость родных местных обыкновений»62, «находясь, вероятно, под влиянием сэра Вальтера Скотта». Кстати говоря, и эта последняя оговорка была рассчитана на создание впечатления о несамостоятельности мышления даже у русских классиков. Далее читаем лживое суждение, обратное по смыслу тому, что содержалось в главном труде Историографа – «Истории Государства Российского»:
«Карамзин предстает лишь панегиристом автократии <…> его работа явилась “Эпосом деспотизма”. Он, не колеблясь, высказывал свое восхищение Иваном Ужасным63, воспринимая его, как и его деда, Ивана III, творцами Русского величия…»64.
Здесь же читаем, также в духе западной тенденциозности, что «впрочем», «ранний Карамзин находился под влиянием западных идей и поэтому в свои ранние годы относил величие России к заслугам Петра Великого»65. Комментарии излишни. Перед нами смесь тенденциозности с прямой ложью и с похабной верой, навязанной самим себе, в неискоренимую «грубость» и «варварство» России и Русских. Говоря же об Историографе, общеизвестно, что он «панегиристом автократии» не был, выступая за естественное развитие режима гражданской свободы народа под эгидой законной национальной христианской власти (отсюда и его искренний консервативный «республиканизм», то есть уверенность в совместимости естественно возникшей и укорененной верховной власти с эволюционно развивающейся гражданской свободой народа).
В том же русофобском духе, что и Британника , писали и пишут до сих пор многие англосаксонские авторы и прочие, к ним примкнувшие, исключая Россию из круга стран Европейско-Христианской цивилизации. Так, бурный восторг русофобствующих персон вызвала предельно тенденциозная работа Тибора Самуэли, «венгерско»-советского эмигранта в Англию66. Применяя «методы» софистики, он очернил буквально всю историю России. Солидарный с ним английский историк Роберт Конкест в предисловии к сему «труду» восторгался новациями подхода Т. Самуэли к Истории России. Нижеприводимой цитаты этого английского «симпатизанта» будет достаточно, чтобы понять «логику» его протеже, решившего посмотреть на всю историю России сквозь искажающую призму своей фамильной микро-истории (его «коммунистическое» семейство было «обижено»). Т. Самуэли при этом как-то забыл о зверском поведении радикалов «революционной» Венгрии. Забыл и о распростертых объятиях Советской России, приютившей его многогрешное «красное» семейство, обеспечив его членам элитарные должности в госаппарате, а ему самому – освобождение от службы в действующей армии в ходе войны с Германией. Забыл и дарованное ему высшее образование в МГУ… Итак, читаем «говорящую» характеристику заведомо русофобского «труда» Т. Самуэли, данную другим записным русофобом, Р. Конкестом:
«Западная точка зрения склонна рассматривать советскую систему как совершенно новое явление глубокой и полной перестройки всего общества. Однако кровавая драма 1917 года в значительной мере затемнила скрытое постоянство русской истории . Именно этот основной широко распространенный и повторяющийся тезис разоблачает Тибор Самуэли в своей великолепно фундированной работе, анализирующей государство и общество в их постоянном кризисе »67.
Такой подход был нацелен тенденциозно «показать», что революционные изменения в России «были, по существу, поверхностными, ве́дшими в конце концов к усилению, в новых формах, старой авторитарной структуры »68. Т. Самуэли и его апологет Р. Конкест, запрограммированные на русофобию, по-софистски изображают «царизм» воплощением «авторитаризма», что является тенденциозностью вместе с элементарной лживостью или глупостью. Ибо любому внимательному и честному исследователю становится очевидным, если он ознакомится с историческими источниками, что русское самодержавие – это не западный абсолютизм и не восточный деспотизм . Этот вывод делал не только И.С. Аксаков сотоварищи69, но, фактически, как мы видели, и англичанин Т. Карлейль, также обративший внимание на Христианскую веру как опору русской государственности. Эта Вера и не давала Государству нашему впадать в деспотизм. Естественно, Т. Самуэли и его английский панегирист выдают Ленина за «возродителя» и продолжателя – «в другой форме» – «Русской традиции авторитаризма», якобы вершившейся прежде царями70.
Видим, таким образом, совершенно оторванный от фактов истории заведомо русофобский подход, абсолютизировавший исключительно российский этатизм . Не обращалось внимания на христиански-духовные факторы нашей истории, на естественно развивавшееся земское самоуправление , характерное уже для времени Иоанна Грозного. Не учитывалось становление режима гражданской свободы, очевидное со времени Елизаветы Петровны и Екатерины II (начало «раскрепощения сословий»)71. Не принималось в расчет и традиционное крестьянское общинное самоуправление, хотя оно доказывает наличие такой степени естественной гражданской свободы народа (даже при «крепостничестве»), какая была неведома в Западной Европе. На это обстоятельство метко указывал А.С. Пушкин и другие наши наблюдатели XVIII-XIX вв.72
Верхом тенденциозности стало «мега»-утверждение Т. Самуэли о якобы вечной «кризисности» России в ходе ее многовековой истории преемственного развития, хотя сама продолжительность Отечественной христианско-государственной истории опровергает лживость этого заглавного тезиса Т. Самуэли. Россия умела сохранять и укреплять суверенитет несмотря на постоянные попытки Запада взять под свой контроль Русскую Землю. Тем более известно, что преемственная история нашей христианско-монархической государственности, начавшаяся в веках IX (Св. Ольга) и X (Св. Владимир), была продолжительнее единой истории Великобритании, начавшейся лишь в XI веке со времени Норманнского завоевания. Заметим, что не только отечественные исследователи, но и подлинные ученые современного Запада не «покупаются» на измышленные ложноклеветнические идеологемы историков-софистов вроде Т. Самуэли. Они в своих работах даже «реабилитируют царизм», как Р. Сани сотоварищи, отказываясь от привычных русофобских установок73.
Приведу еще примеры типичной западной исторической русофобии, основанной на молчаливом отрицании первичности Христианской цивилизации, объединявшей до великого раскола 1054 года два полюса Нового мира – Восточный, Цареградский и Западный, Римо-Парижский. Обмирщенный (секулярный) вольтеро-кантовский подход приводил к произвольному вычленению России из Европы, изображая ее каким-то монстром. В луч- шем случае за Русскими признавалась способность убогого подражания «просвещенному» Западу. При этом не учитывался духовный крах самого Запада, этой второй части Христианского мира, совершившей «догматическое» преступление искажения Символа Веры, открывший путь неизбежному извращению Христианства, вплоть до конечного «выхода из него», – к атеистическому падению «модерна».
Даже признанные эрудиты, вроде Р. Пайпса, исходили и исходят из названных ложных посылок якобы изначальной чуждости России так называемой «европейской цивилизации». Это влекло и влечет за собой все прочие заблуждения о России со стороны западной «прогрессивной общественности». Правда и ложь наблюдений смешиваются, лишая читателя истинной исторической картины нашего Отечества. Так, Р. Пайпс, верно обрисовывая в духе Н.М. Карамзина ошибочный «бюрократический» итог преобразований Петра Великого (с отрывом «ордена» управленцев от народа), тут же пускается в русофобство. Он не указывает, в отличие от нашего Историографа, что сей «орден» был плодом ошибочной германизации правящего класса (дворянства) Империи. Оттого Петр и переименовал Царство на латинский манер, назвав Империей . Читаем этот навет Р. Пайпса:
«Идея государственной службы как служения обществу была совершенно чужда русскому чиновничеству; она была завезена с Запада, в основном из Германии. Именно прибалтийские немцы впервые показали русским , что чиновник может использовать свою власть для служения обществу»74.
Р. Пайпс клевещет на русское чиновничество, которое в средних и низших своих слоях сохраняло природный русизм, или, как говорили - «дух народности». Достаточно прочесть произведения классиков, например, «Однодум» Н.С. Лескова, изобразившего неподкупного чиновника уездного города в 1850-е гг. Квартальный А. Рыжов однажды, не колеблясь, поучил правильному поведению в Храме Божием прибывшего в Солигачский уезд губернатора С.С. Ланского, природного аристократа, но в духе Петра несколько оторвавшегося «от корней». Впрочем, и сам приближенный к царю сановник, которого во время литургии в положенное время силой пригнул Рыжов для земного поклона, оказался в душе русским человеком. За усердие он представил неподкупного госслужащего к царскому ордену, дававшему дворянство, который тот и получил75.
Иной скажет, что описанный Н.С. Лесковым случай – это исключение из правила и ничего не доказывает. Не согласимся! Сам факт появления такого мирского, но поистине святого человека много говорит о благотворной природе народной Руси, способной рождать столь светоносных людей. Одновременно становится ясным и предельная русофобия Р. Пайпса, по-расистски утверждавшего о наличии «изъянов в психологии» Русских76. Са́мого главного в России американский «советолог» не заметил, в отличие от христианина Т. Карлейля, вполне подтверждая мысль баснописца И.А. Крылова, высказанную в известной басне («Слона-то я и не приметил!»).
Р. Пайпс, как видим, совершил и другую ошибку, инстинктивно в духе обще-западной солидарности некритически отнесшись к «германскому элементу» в нашей истории, приписав ему некую уникальную цивилизующую роль, покрыв забвением (умышленным или невольным в духе русофобской установки) массу свидетельств отрицательной роли «немецкого элемента» в Российской империи. После 1815 г. русское общество с недовольством наблюдало за поразительным «наводнением» Немцами политического класса России в условиях быстрого роста русофобии во всех германских государствах. И это после победы России над «Наполеоновской Европой» с освобождением ею Германии от французского ярма! Р. Пайпс игнорировал это важнейшее обстоятельство. Между тем, как метко заметил
А.Г. Кузьмин, в первой половине XIX в. фактом стал «воинственный пангерманизм», направленный против славянских народов: «Общегерманский фестиваль в Гамбахе в 1832 г. обозначил Россию главным врагом немецкого национализма, изначально выступившего с претензиями на господство над иными народами, прежде всего славянскими»77.
Несмотря на вооруженный протест национально ориентированных декабристов противоестественная мобилизация чужеродного элемента в верхи Империи при Николае I лишь усилилась. Именно при нем были заложены политические предпосылки краха нашей Христианской монархии в 1917 г.78 Это обстоятельство побудило В.В. Розанова назвать Николая Павловича «плоским бараном», не ориентировавшимся на «осияние Царства» в лице русских гениев – Св. Филарета, Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Гоголя. Розанов с горечью писал, что Николай «хотел один сиять “со своим другом” Вильгельмом-Фридрихом» прусским79.
Германизация верхов дошла до того, что Е.Ф. Канкрин, немец-гессенец и министр финансов Империи, «предлагал переименовать Россию в «Петровию», а всех ее жителей – в “петровцев”»80. Это было рождением типично русофобского приёма лишения России ее природного имени как следствие «обезрусения» ее верхов. Позднее подобная вивисекция с переименованием государства удалось В.И. Ленину вместе с попыткой низведения державообразующего Русского народа до роли массовой обслуги новых чужеродных «интернационалистских» верхов, устремившихся к «мировой революции» и «красному» глобальному доминированию.
В отличие от Р. Пайпса и прочих западных историков-русофобов, противоестественный германо-русский симбиоз с «унижением россиян в собственном их сердце»81, устроенный Петром I, был изучен Н.М. Карамзиным, А.С. Пушкиным, Ф.И. Тютчевым и другими нашими классиками, представителями «русского воззрения». Эта главнейшая школа Русской мысли, явившая целый ряд гениев славянофильства и почвенничества до- и пореволюционного времени, показала, что Россия – это русская в основе Христианско-царская страна, в современном виде созданная Великороссами, главной ветвью Русского народа. Этот трехчастный народ является державонесущей основой Государства, единственным ее субъектом. «Иные» народы, вошедшие в Россию, выступают соратниками Великороссов в государственном строительстве. Причем в той мере, в которой они согласились с заглавной ролью именно Великороссов и их собратьев – Малороссов и Белорусов82. Порок русофобствующих Англо-Саксов и примкнувших к ним иных западных исследователей состоит в неучете доводов названной Русской школы мысли. Она является сердцевиной Русской культуры. Поэтому, кстати говоря, те же воззрения – о «русской основе» Великой России – были характерны для наших гениев музыки мирового масштаба – М.А. Глинки, П.И. Чайковского, М.А. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова и других83.
Однако все это было тайной за семью печатями для Р. Пайпса и всего легиона прочих патентованных западных русофобов, включая англичанина Д. Хоскинга. Следует сказать о двухтомнике последнего, ибо он был основательно «раскручен» и заботливо переведен84. Этот русофобский труд, к сожалению, используют и англо-американские специалисты, стремящиеся к объективному изучению русской словесности и истории85. Д. Хоскинг руководствуется русофобскими установками, препятствующими ему понять дух Русской истории, ее движущие силы. Он без раздумий соглашается с рядом русофобских клише, прежде всего с пресловутым норманизмом. Это вера в германо-скандинавское происхождение нашей государственности, сконструированная в Швеции для оправдания ее притязаний на Русские земли. Так, читаем у Д. Хоскинга: «Сейчас практически достоверно установлено <…> [русы] были скандинавские викинги, “варяги” (так их называли славяне), купцы-воины, искавшие торговые пути…»86. Данная «констатация» – это откровенная ложь. Ан- глийский историк сознательно «выбрасывает за борт» всю «ломоносовско-татищевскую» научную традицию постижения Руси. Это великое направление представлено такими именами «антинорманистов», как М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер, Ю.И. Венелин, С.А. Гедеонов, а в советское и наше время продолжалось А.Г. Кузьминым, А.Н. Сахаровым, В.В. Фоминым, Лидией И. Грот и т.д.87 Англичанин, проявляя высокомерие, даже не считает нужным посчитаться с наличием столь важной научной школы. Он руководствуется антирусскими инстинктами, как и масса его историографических «однопартийцев». Потому нет никакого смысла подробно рассматривать его произведение, основанное на ряде ложных установок. Достаточно остановиться на еще одной из них.
Так, Д. Хоскинг полагает: «Россия всегда была полиэтническим государством, не имела доминирующей нации…»88. Поразительно! Достаточно открыть «Слово о Законе и Благодати» (1037) митрополита Илариона, дабы убедиться в ложности приведенного отправного утверждения англичанина. В «Слове…», первом из известных памятников отечественной политической мысли, говорится о «Русской Земле» и «Русском народе» как воплощении Руси и что Русские приняли Христианство благодаря князю Владимиру89. Далее. Истина о России как прежде всего государстве Русского народа («державообразующего», как говорят сегодня) может быть достигнута и приемом «от противного», глядя на политику такого известного «русоненавистника», как В.И. Ленин. Последний прекрасно знал, что Россия – это Русская страна, и потому делал все, чтобы ее «переформатировать», расчленив на части для торжества марксистского утопического плана «мировой революции». Он даже фиксировал наличие духа русизма, ненавидя его, называя главный народ России «великим», как «велик держиморда», якобы «угнетающий инородцев»90.
Да и само слово «инородец» объективно точно свидетельствует о национально-русской, с великорусским ядром, основе Российского Государства, в какой бы форме оно не являлось, от Московского Царства до Российской империи, Советского Союза и современной России. Это слово запечатлело факт наличия главного, «руководящего» Русского народа и «иных», часто малых числом народов, соединенных общей исторической судьбой. Это понял даже искренний марксист-ленинец Иосиф Сталин91, первоначально много сделавший для устранения духа русизма из факторов внутренней политики Государства, с заменой его «интернационализмом».
В завершение заметим, что прикосновение к теме рецепции русизма на Западе , в частности в Англо-Саксонском мире, очевидно, показывает прямую зависимость типичной и уже многовековой западной русофобии от нескольких обстоятельств. Во-первых – от силы нашего внутреннего самосдерживания, или «себяненавистничества», если можно так выразиться, отражением чего являются многие потоки западных исторических клевет на Россию. То есть внешние русофобы опираются на русофобов «внутренних»92. Во-вторых – от комплекса духовной неполноценности Запада, чувствующего русский духовный гений, подобием которого «полунощная» Европа вместе с ее репликой – США – уже не обладают. Они наследуют первоначальную измену Запада единой Христианской Цивилизации, сотворенную по-сепаратистски в 800 году. И в–третьих – от прямого невежества многочисленных западных исследователей России, не подозревающих о существовании мощной христоцентричной консервативно-самобытнической традиции чувства и мысли, объединившей большинство наших национальных гениев, от Илариона Киевского до П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева и т.д. В соединении с подсознательной русофобией, которой Запад буквально пропитан, это вопиющее невежество приводит целый ряд западных специалистов к вопиюще-ложным выводам с неумением привести приводимые факты к единому знаменателю.
Так, американка Э. Монахан, обследовавшая деятельность «сибирских купцов», возсо- чувствовала якобы несчастной доле Ричарда Чемберлена, английского купца в России XVI века, которого якобы «доконало ведение дел в России»93. Перечисляются многочисленные беды, навалившиеся на купчину, да и на «местных уроженцев» (от «продажных чиновников» до «трудностей с логистикой»). И, о чудо, на этой же странице (!) читаем прямо противоположное: «Немало предприимчивых крестьян с Русского Севера <…> стали богатейшими купцами», а для англичан в России существовал «широчайший спектр возможностей» и «Р. Чемберлен был освобожден от всех пошлин». Индус же Сутур Кадеков, также купец, осевший в Астрахани, хотя и платил высокую пошлину, «подивился благоприятным условиям <…> в отличие от Персии». Он свидетельствовал, что «нигде в России» у него «“обид никаких ни от кого не было и торговать ему дали повольною торговлею”»94. Видим, что англичанка-историк видит в источниках нечто истинное, что не учитывает в выводах, инстинктивно наполняющихся русофобским содержанием.
Невольно ведо́мая русофобской модой определенных кругов, она даже вторгается в область, ей неведомую, по сути, клевеща на русских православных миссионеров Сибири. Американка голословно утверждает, что «Россия проявила себя на этом поприще весьма тускло»95. Здесь не требуется никаких комментариев за отличной известностью успехов нескольких поколений наших миссионеров, от Стефана Пермского до Иннокентия Московского, просветителя алеутов, архимандрита Макария Алтайского, Николая Японского и т.д. Они создавали письменность для непросвещенных племен, переводя для них Священное Писание, распространяя церковность в прежде диких местах, от нашего Севера и Урала до Дальнего Востока и Северной Америки. Так что Э. Монахан, к сожалению, не сумела избавиться от вязкой англо-саксонской русофобии.
Тем замечательнее наличие в Англо-Саксонском мире, и на Западе в целом, того заметного явления, хотя «численно» и не господствующего, как рецепция русизма духовного и культурного , свидетельства чего были приведены. Понятно, что в зарубежье пока нет рецепции нашего «политического русизма» за прекращением в 1917 году самобытной «царской» государственности. К тому же эта государственность была искажена духом прозападной подражательности Петра I, не исправленной по плану Карамзина-Пушкина-Тютчева и т.д. Советский же «красный» проект имел многочисленных подражателей, но был мертворожденным из-за встроенной в него антидуховности и безбожия, потому и сошел на нет к 1990 году (как и предрекали еще до 1917 г. провидцы-консерваторы).
Изучение заявленной темы, несомненно, может способствовать внутреннему оздоровлению России. Она должна породить героев, которые наконец поймут смысл советов великого Карамзина и его последователей, учивших политический класс России жить своей судьбой, в соответствии со своим характером, не «обезьянничая», не делаясь «сколком другого народа» (Англо-Саксов и т.п.), к чему призывал, в частности, А.С. Хомяков96.
Наличие же в Англо-Саксонском мире истинных ценителей русизма должно нас самих подвигать к всестороннему овладению родным наследием, внедряя советы его поборников в практику жизни Отечества.
ПРИМЕЧАНИЯ
-
1 Термин А.А. Зиновьева.
-
2 Белинский В.Г. Николай Алексеевич Полевой (1846) // Он же . Собр. соч. в 9 т. Т. 8. М.: Художеств. литература, 1982. С. 162.
-
3 Достоевский Ф.М. Мой парадокс (1876) // Он же . Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 23. Дневник писателя за 1876 год. Л.: Наука, 1981. С. 38 (курсив мой. – В.Ш.).
-
4 Леонтьев К.Н. Кто правее? (1890) // Он же . Полн. собр. соч. и писем в 12 т. Т. 8. Кн. 2. – СПб.: Изд-во
«Владимир Даль», 2009. С. 72 (курсив мой – В.Ш.).
-
5 Розанов В.В. Мимолетное (1915). Собр. соч. / Ред. А.Н. Николюкин. М.: Изд-во «Республика», 1994. С. 301 (курсив мой. – В.Ш.).
-
6 В данной работе имена народов пишутся с заглавной буквы, как того требует Христианская традиция, знавшая истинную историческую субъектность именно народов. Ошибочная вера марксистов в «рабочий класс», с надеждой на исчезновение наций в «земшарном» конгломерате, и привела к извращению написания имен Народов, с понижением первой буквы их наименования с заглавной на строчную.
-
7 Ларина Т.В. Англичане и русские: Язык, культура, коммуникация. М.: Языки славянских культур, 2013; Лабутина Т.Л. Англомания и англофильство российской политической элиты как результат «мягкой силы» британской колонизации (XVI–XVIII вв.) // «Жесткая» и «мягкая сила» британского льва. Из истории колониальной политики / Отв. ред. Т.Л. Лабутина. СПб.: Алетейя, 2024. С. 400-426.
-
8 Розанов В.В. Отцы-воспитатели русского общества // Он же . На фундаменте прошлого. Статьи и очерки 1913-1915 гг. / Собр. соч. / Ред. А.Н. Николюкин. М.: «Республика»; СПб.: «Росток», 2007. С. 474.
-
9 Shumacher, Leonore . Stadt im Feuer: Nachdenken über Russland. Stein am Rein: Christiana Verlag, 1989.
-
10 Ibid. S. 45-46. Попутно Э. Шумахер разоблачает русофобские мифы, в частности о якобы исключительно «русской природе» Большевизма, утверждая, что его корни «скрыты в европейском XIV – не русском веке», когда на Западе «появилась глубокая анархическая тоска по свободе <…> от Бога». Говорилось и о «практической» помощи Запада революции, завершившейся победой Ленина. См.: Ibid. S. 73-74, 88. 93, 96.
-
11 Ibid. S. 75.
-
12 Ibid. S. 99, 125-126.
-
13 Подробнее о работе Э. Шумахер см.: Шульгин В.Н. Град в огне // Слово. 1993. № 1-2. С. 28-29.
-
14 Freeborn, Richard . Ivan Turgenev. Russian author // Encyclopaedia Britannica – URL: https://www . britannica.com/biography/Ivan-Sergeyevich-Turgenev (курсив мой. – В.Ш.; дата обращения: 20.10.2024).
-
15 Определение «сверхобщество» также дал А.А. Зиновьев. См., напр., его труд «Запад».
-
16 Трубецкой Алексис. Крымская война: Неизвестная мировая война / Перевод с англ . СПб.: Торг.-изд. дом «Амфора», 2014. С. 239.
-
17 Н.М. Карамзин метко заметил: «Петр удивил Европу своими победами – Екатерина приучила ее к нашим победам». См.: Карамзин Н.М . Записка о Древней и Новой России в ее политическом и гражданском отношениях (1811). М.: Наука, 1991. С. 42.
-
18 Карамзин Н.М. О любви к отечеству и народной гордости (1802) // Он же . Избранные статьи и письма / Сост., вступ. ст., коммент. А.Ф. Смирнова. М.: Современник, 1982. С. 94. Эта же мысль Карамзина о вреде смирения в политике, лишенной духа народности, оборачивающейся «презрением к себе», повторялась и в других работах, в частности в «Записке…» 1811 г. См.: Карамзин Н.М . Записка… С. 32-33.
-
19 Карамзин Н.М . Письма Русского Путешественника (1790). Л.: Наука, 1987. С. 383-384.
-
20 См., напр.: Тютчев Ф.И . Эти бедные селенья… (1855); Славянам (1867); Великий день Кирилловой кончины…(1869) // Он же . Сочинения в 2 томах. Т. 1. М.: Правда, 1980. С. 142, 190-191, 198.
-
21 Тютчев Ф.И. Россия и Германия (1844) // Полн. собр. соч. и письма в 6 т. Т. 3 / Сост., переводчик текстов, комментатор Б.Н. Тарасов.М.: «Классика», 2003. С. 112.
-
22 Леонтьев К.Н . Наши окраины (1880) // Полн. собр. соч. и писем в 12 т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2007. С. 31 (курсив автора).
-
23 Карамзин Н.М. Записка о Древней и Новой России… С. 32-33 (курсив мой. – В.Ш.).
-
24 Леонтьев К.Н . Кто правее? <Письма к В.С. Соловьеву> (1890) // Полн. собр. соч. и писем в 12 т. Т. 8. Кн.
-
2 . СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2007. С. 170 (курсив автора; чертой подчеркнуто мною. – В.Ш.).
-
25 Там же. С. 162 (курсив автора).
-
26 Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю (1947). М.: Захаров, 2002. С. 296-297.
-
27 Не буду касаться проблемы западного цивилизационного кризиса, очевидного в наши дни. Скажу лишь, что все это – естественное следствие первичного уклонения Запада от христианского единства начиная с 800 года, когда единая Империя Второго Рима была расколота надвое папой Львом III и королем Франков Карлом, незаконно провозглашенным «римским императором». Одновременно шел процесс выхода Запада из единой Апостольской Церкви. Современный духовный кри-
- зис Запада – это отдаленное следствие названной двойной первичной измены.
-
28 Там же. С. 93 (курсив автора).
-
29 Володин А.И. Герцен и Запад // Литературное Наследство: Герцен и Запад. М., 1985. С. 29.
-
30 Патридж М. Герцен и Англия // Литературное Наследство: Герцен и Запад. М., 1985. С. 49-50. См. также: Патридж М.А. Герцен и его английские связи // Проблемы изучения Герцена. М., 1963.
-
31 Carr E . Romantic Exiles. London, 1933. P. 427-428.
-
32 Герцен А.И. Собр. соч. в 30 томах. Т. 11. М., 1957. С. 537-538.
-
33 Carr E . Romantic Exiles… р. 428 (выделено автором; перевод отдельных фрагментов мой. – В.Ш.); См. также: Герцен А.И. Собр. соч. в 30 томах. Т. 11. М., 1957. С. 537.
-
34 Emerson R.W. The Selected Writings / Ed. вy B. Atkinson. New York: Modern Library Edition, 1992. P. 838, 840-841.
-
35 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 48, 157, 159, 221, 232, 341 (курсив автора).
-
36 Высказывание К.Н. Леонтьева на сей счет приведено выше. См. по сноске № 22.
-
37 Ильин И.А . Собрание сочинений (далее: Собр. соч.). Переписка двух Иванов (1927–1934) / Сост., вступ. ст. и комментарии Ю.Т. Лисицы. М.: РУССКАЯ КНИГА, 2000. С. 328, 337.
-
38 См. исследование швейцарского автора об этом западном феномене: Меттан Г. Запад – Россия: тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до Украинского кризиса. М.: Паулсен, 2016.
-
39 Там же. С. 541. В нашей литературе упоминалось о положительных отзывах английской критики и Р. Киплинга на повесть И.С. Шмелева «Это было». См.: Сорокина О.Н . Московиана. М.: Московский рабочий, 1994. С. 197, 229; Осьминина Е.А. Как это было… // Шмелев И.С. Собрание сочинений в 5 т. Т. 7 (дополнит.). Это было: Рассказы. Публицистика / Сост. Е.А. Осьминина. М.: Русская книга, 1999. С. 4.
-
40 И.С. Шмелев сообщал И.А. Ильину в пространном послании от 5 апреля 1946 г. о еще одном письме к нему Р. Киплинга (1865-1936). Это письмо он также выслал И.А. Ильину, о чем и сообщил: «Письмо Р. Киплинга шлю особо. Авось не украдут». См.: Ильин И.А . Собр. соч. Переписка двух Иванов (1935–1946) / Сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. М.: РУССКАЯ КНИГА, 2000. С. 404. Примечание . Ю.Т. Лисица, составитель трех книг переписки «двух Иванов», в комментарии к этому письму сообщил, что И.А. Ильин его получил. Позднее оно, по-видимому, затерялось и его текст не введен в оборот. См.: Там же. С. 567.
-
41 Ильин И.А . Собр. соч. Переписка двух Иванов (1927-1934)… С. 430 (выделено автором).
-
42 Ильин И.А . Там же. С. 42 (курсив мой. – В.Ш.)
-
43 Там же. С. 446.
-
44 Там же. С. 477.
-
45 Там же. С. 477-478 (курсив автора; выделено им же).
-
46 Там же. С. 278.
-
47 Там же. С. 455.
-
48 Там же. С. 199, 532. Есть и другие свидетельства признания творчества И.С. Шмелева в других европейских странах и США. См.: Там же. С. 230-231, 238-239, 266 и др.
-
49 Стендаль . Жизнь Наполеона // Он же. Итальянские хроники. Жизнь Наполеона / Прим. Б. Реизова и др. М.: Правда, 1988. С. 438. Примечание . Удивительна степень инстинктивной «объективной» русофобии Стендаля при том, что злодеем он не был и признавал в своих письмах 1812 года, что красоты дворцов «допожарной» Москвы далеко превосходили все аналогично французское. Он, как видим, жалел, что Франция далека от России своими границами и потому ее положение «невыгодно» для решения извечной задачи Запада по уничтожению Восточного полюса Христианского мира, без которого этот Мир на земле не может существовать. Видим, что Романо-Германский Запад, отколовшийся от Империи и Церкви истинных, в своем преобладающем большинстве неисправимо враждебен Христианской России. Он силится оправдать себя якобы справедливым желанием «остановить» Россию в ее «экспансии» на Запад. Это не более чем софистская придумка для маскировки собственного устремления к захвату Русского Востока.
-
50 Hartley J.M . Alexander I. London; New York: Longman Group, 1994. P. 139-147.
-
51 Ibid., p. 139.
-
52 Цит. по: Трубецкой Алексис . Указ. соч. С. 22-23 (курсив мой. – В.Ш.).
-
53 Там же. С. 34 (курсив мой. – В.Ш.).
-
54 Там же. С. 23.
-
55 См.: Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. М.: Правда, 1983. С. 35-46 и далее.
-
56 Масси С. Земля Жар-птицы / Перевод Г.Н. Корнева, Т.Н. Чебоксарова. СПб.: «Лики России»; «Са-тис», 2000. С. 18.
-
57 Там же. С. 19.
-
58 * разочарование, крушение надежд (примечание переводчиков).
Масси С. Земля Жар-птицы… С. 19 (курсив мой. – В.Ш.).
-
59 См., кроме того: Gardner, John . On Moral Fiction (1978). New York: Barnes@Noble, 2009; Knapp, Liza . The Giants of Russian Literature: Turgenev, Dostoevsky, Tolstoy and Chekhov. – [Columbia university]: Recorded Books, LLC, 2006; Halstead, Susan . The gentle giant of Russian literature: Ivan Turgenev // Портал «British Library» URL: https://blogs.bl.uk/european/2018/11/the-gentle-giant-of-russian-literature-ivan-turgenev.html (дата обращения: 20.10.2024).
-
60 Лабутина Т.Л. Указ. соч. С. 426.
-
61 Hartley J.M. Alexander I…, p. 118.
-
62 По-английски читаем: «concealing the coarseness and cruelty of native manners».
-
63 Типичное западное (на всех романо-германских языках) искажение русского прозвания Иоанна Грозного («Грозный Царь» – это совсем не «ужасный царь»; это изначально клеветническое выражение).
-
64 Karamzin, Nikolai Mikhailovich // The Encyclopaedia Britannica, 11th ed. Cambrige : at The University Press, 1911, p. 677.
-
65 Ibid., p. 677.
-
66 Szamuely T . The Russian Tradition / ed. by Robert Conquest. London : Secker and Warburg, 1974. Примечание . Читаем в английской статье, что Т. Самуэли родился в Москве в 1925 г. в «венгерско-еврейской семье»; его родители-коммунисты «происходили из купеческих семейств». – URL: https:// en.wikipedia.org/wiki/Tibor_Szamuely_(historian) (19.10.2024). Подростком в 1930-е гг. он жил и учился в Лондоне, где его отец работал в советском торгпредстве. Скончался он также в Лондоне в 1972 г., сумев туда сбежать. Был типичным «красным» русофобом. Назван в честь дяди, вождя Венгерской революции. Его элитарное семейство, сердечно принятое в Москве после краха революции 1919 г., при Сталине пострадало – был репрессирован и погиб его отец. Однако младой Т. Самуэли тихо пережил военное время. После войны был призван в армию, служил в ее составе в Венгрии, затем закончил Истфак МГУ. Был репрессирован по подозрению в шпионаже, но освобожден в 1953 г. по просьбе главы «советской» Венгрии М. Ракоши (Розенфельда). В 1957 г. его сделали одним из руководителей Будапештского университета. Нацелившись эмигрировать в Англию, он добился в 1963 г. профессорской командировки в Гану (просоветскую страну Африки), в Институт Квамы Нкрумы. В 1964 г. сумел уехать с семьей в Англию.
-
67 Szamuely T . The Russian Tradition…, текст суперобложки, 1 (курсив мой. – В.Ш.).
-
68 Ibid. (курсив мой. – В.Ш.).
-
69 Аксаков И.С . Русское самодержавие – не немецкий абсолютизм и не азиатский деспотизм (1865) // Он же . Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 458-463.
-
70 Szamuely T . The Russian Tradition… P. X.
-
71 См.: Леонтович В . История либерализма в России 1762-1914 гг. (1957). М.: Русский Путь, 1995.
-
72 См., напр.: Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петербург // Он же . ПСС в 10 т. Т. 7. М.: Наука, 1964. С. 289-290. Читаем: «Фонвизин <…> путешествовавший по Франции, говорит, что, по чистой совести, судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского земледельца». Не говоря уже о положении «английских фабричных рабочих», читая жалобы которых «волоса встанут дыбом от ужаса».
-
73 См., напр.: Suny R.G. Rehabilitating Tsarizm: The Imperial Russian State and Its Historians // Comparative Studies in Society and History. Vol. 31. № 1, January 1989, p. 168-179.
-
74 Пайпс Р. Россия при старом режиме (1979). М.: Захаров, 2004. С. 395-396 (курсив мой – В.Ш.)
-
75 Лесков Н.С. Однодум // Собр. соч. в 11 т. Т. 6. М.: Гос. изд-во художеств. литер., 1957. С. 211-243.
-
76 Пайпс Р. Указ. соч. С. 6.
-
77 Кузьмин А.Г. Истоки русского национального характера // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1993. № 5. С. 14.
-
78 Проф. Т.Л. Лабутина предельно обоснованно и в духе отечественной традиции мысли Н.М. Карамзина, В.В. Розанова и т.д. заключила: «Начавшийся в XVIII веке раскол российского общества <…> не только не был преодолен, но ещё больше углубился, что и привело, в конечном итоге, к круше-
нию Российской империи в 1917 году». – Лабутина Т.Л. Указ. соч. С. 426.
-
79 См. Розанов В.В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени / Ред. А.Н. Николюкин. М.: Республика, 2000. С. 5-7.
-
80 Цимбаев Н.И . Россия и русские (Национальный вопрос в Российской империи) // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1993. № 5. С. 30.
-
81 Карамзин Н.М. Записка о Древней и Новой России… С. 32.
-
82 См., напр.: Калайдович М.О. История Русского самосознания. По историческим памятникам и научным сочинениям (1901, издание 3-е). Минск, 1997.
-
83 См, напр.: Мусоргский М.А. Письма. М.: Изд-во «Музыка», 1981. С. 24-39, 48-53 и др.; Свиридов Г.В. Музыка как судьба. М.: Молодая гвардия, 2017. С. 76-80, 93-94, 99, 128-130 и др.
-
84 Хоскинг Дж. Россия и русские. Кн. 1 и 2 (2001). М.: Изд-ва «Аст» и «Транзиткнига», 2003. Примечание . Анонимный англоман-русофоб, автор аннотации-заманки к переводному двухтомнику, снабдил ее лживейшей тезой, возвестив, что «наиболее интересные – в смысле оригинальности и нетрадиционности взгляда – исследования истории НАШЕЙ СТРАНЫ всегда, с древнейших времен, создавали ИНОСТРАНЦЫ». Видим здесь тотальное отрицание ценности Русской мысли, навязываемое некими теневыми «зомбирующими» структурами. См.: Хоскинг Дж. Указ. соч. Кн. 1… С. 4.
-
85 См.: Knapp, Liza . The Giants of Russian Literature: Turgenev, Dostoevsky, Tolstoy and Chekhov. – [Columbia university]: Recorded Books, 2006 (серия «The Modern Scholar»). P. 6, 94.
-
86 Хоскинг Дж. Указ. соч. Кн. 1… С. 41.
-
87 См., напр.: 1) Фомин В.В. Ломоносовофобия российских норманистов // Варяго-русский вопрос в историографии. Сб. статей и монографий / Составит. и ред. В.В. Фомин. М.: НП ИД «Русская панорама», 2010. С. 203-521; 2) Фомин В.В. Варяги и Русь // Варяги и Русь. Сб. статей и монографий / Составит. и ред. В.В. Фомин. М.: НП ИД «Русская панорама», 2015. С. 7-111.
-
88 Хоскинг Д. Указ. соч. С. 12.
-
89 Ужанков А.Н. «Слово о Законе и Благодати» и другие творения митрополита Илариона Киевского. М.: НИЦ «Академика», 2014. С.192-193, 208-211. На русском языке XI в. эти понятия писались с одним «С». Читаем: 1) «Вера бо благодетьнаа по всеи земли простреся и до нашего языка рускааго дойде» (С.192; Примечание . Слово « язык » равнозначно слову « народ »; выделено мною – В.Ш.). 2) О деятельности Князя Владимира: «Не в худе бо и неведоме земли владычествоваша, но в Руське , яже ведома и слышима есть всеми четырьми конци земли» (С. 208, 210; выделено мною. – В.Ш.).
-
90 Ленин В.И . К вопросу о национальностях или об “автономизации” (1922) // Полн. Собр. Соч. Т. 45. С. 343-400.
-
91 Сталин И.В. Выступление на приёме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 г. // Он же . О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М.: Военное изд-во Министерства вооруженных сил СССР, 1949. С. 196-197.
-
92 См. выше, для дополнительного подтверждения этой мысли, комментарий к примечанию № 84 о лихом русофобстве русских издателей книги однородного с ними по взглядам Дж. Хоскинга, считающих, что русская историография никуда не годится, и историю России надо постигать по трудам чужестранцев.
-
93 Монахан Эрика . Сибирские купцы: торговля в Евразии раннего Нового времени / Перевод с англ. М.: НЛО, 2024. С.12.
-
94 Там же. С. 12-13.
-
95 Там же. С. 503.
-
96 Хомяков А.С. Англия (1848) // Он же. О старом и новом. Статьи и очерки. М.: «Современник», 1988. С. 172.