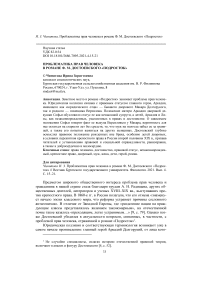Проблематика прав человека в романе Ф. М. Достоевского «Подросток»
Автор: Чимитова Ирина Зоригтоевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: К юбилею Ф. М. Достоевского
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
Заметное место в романе «Подросток» занимает проблема прав человека. Юридическая коллизия связана с правовым статусом главного героя, Аркадия, имеющего как «юридического отца» - бывшего дворового Макара Долгорукого, так и родного - помещика Версилова. Положение матери Аркадия дворовой девушки Софьи обусловило статус ее как незаконной супруги, а детей, Аркадия и Лизы, как незаконнорожденных, ущемленных в правах и достоинстве. О зависимом положении Софьи говорит факт ее выкупа Версиловым у Макара, вероятность для нее остаться на старости лет без средств, то, что муж на полгода забыл ее за границей, а также его попытки жениться на других женщинах. Достоевский глубоко осмыслил правовое положение рожденных вне брака, особенно детей дворовых, в условиях пережитков крепостного права в России второй половины XIX в., призвав читателей к установлению правовой и социальной справедливости, равноправия, а также к добросердечию и милосердию.
Права человека, достоинство, правовой статус, незаконнорожденный, крепостное право, дворовый, муж, жена, дети, герой, роман
Короткий адрес: https://sciup.org/148324325
IDR: 148324325 | УДК: 82.0:34
Текст научной статьи Проблематика прав человека в романе Ф. М. Достоевского «Подросток»
Чимитова И. З. Проблематика прав человека в романе Ф. М. Достоевского «Подросток» // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2021. Вып. 4. С. 15‒21.
Предметом широкого общественного интереса проблема прав человека и гражданина в нашей стране стала благодаря трудам А. Н. Радищева, других общественных деятелей, литераторов и ученых ХVIII–ХIХ вв., выступавших против крепостного права. В 1860-е гг. в России полагали, что его отмена «знаменует начало эпохи классового мира, что реформа устраняет причины сословного антагонизма». В отличие от Западной Европы, где «разделение нации на враждующие классы представлялось явлением закономерным», на отечественной почве такое казалось «преходящим, легко устранимым…» [9, с. 79]. Однако позже Достоевский убедился в актуальности вопросов, связанных, в частности, с проблемой прав человека, отраженной в романе «Подросток»1.
Юридическая коллизия и соответствующая терминология возникают уже в самом начале произведения: главный герой Аркадий Долгорукий, от лица кото- рого ведется повествование, представляется читателю как сын «юридического отца» Макара Долгорукого, бывшего садовника, дворового господ Версиловых, «законнорожденный, хотя… в высшей степени незаконный сын», т. к. в действительности его отцом является помещик Версилов [3, с. 7–8]. Что касается матери Аркадия Софьи, то юридически она жена Долгорукого и одновременно фактическая супруга Версилова, его бывшая дворовая.
Брак дворовых, как было принято в системе крепостного права, был заключен с разрешения господ, в роли которых выступила по-соседски присматривавшая за имением Версиловых помещица Татьяна Павловна Пруткова. Говоря о пожелании отца Софьи, завещавшего Макару вырастить девушку и жениться на ней, повествователь отмечает неправоспособность завещателя как крепостного. Как известно, у крепостных были попраны права на свободу, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, свободу передвижения и места жительства и ряд других прав и свобод.
Размышляя с долей иронии над неясной для него причиной, побудившей Софью полюбить Версилова, Аркадий подчеркивает их разнородность: «…может быть, она полюбила до смерти… фасон его платья..., тот романс, который он спел.., полюбила нечто никогда не виданное и не слыханное (а он был очень красив собою), и уж заодно полюбила, прямо до изнеможения, всего его, с фасонами и романсами. Я слышал, что с дворовыми девушками это иногда случалось во времена крепостного права… Я это понимаю, и подлец тот, который объяснит это одним только крепостным правом и “приниженностью”! Итак, мог же… этот молодой человек иметь в себе столько самой прямой и обольстительной силы, чтобы привлечь такое чистое до сих пор существо, и, главное, такое совершенно разнородное с собою существо, совершенно из другого мира и из другой земли» [3, с. 16].
Социальная дифференциация явно ощущалась в первой половине 1870-х гг., когда создавался роман «Подросток». Сталкивались представители различных позиций. Так, защитники устаревших феодальных прав, дворянских привилегий препятствовали расширению прав других сословий, требовали закрыть представителям последних доступ к высшему образованию, за исключением обучения простым техническим навыкам. Романом, главный герой которого — выходец из «промежуточных слоев», его автор полемизировал с ретроградами [10, с. 28].
У писателя были для этого все основания, в том числе опыт осмысления широкого круга вопросов социального и культурного развития страны. Известный юрист и философ конца ХIХ — начала ХХ в. П. И. Новгородцев, ставивший во главу угла своей теории права характерную для национальной культуры категорию «любовь», считал вершиной отечественной правовой мысли и выражением русского народного характера творчество Достоевского. «Именно от Ф. М. Достоевского через Вл. Соловьева к Б. Н. Чичерину, Л. И. Петражицкому, Н. М. Коркунову, Б. Ф. Кистяковскому, С. А. Муромцеву, М. М. Ковалевскому, Г. Ф. Шершеневичу идет основная нить развития русской философии права…», — комментирует взгляды Новгородцева В. С. Дробышевский [5, с. 56–57].
Идейная борьба продолжилась и в конце 19-го столетия, в том числе в сфере юридической науки. Высказывались противоположные взгляды. Наряду с такими трудами, как работа А. Г. Мартенсона «Что такое так называемое право и наука о нем: правоведение или юриспруденция» (1890), в которой право сближалось со справедливостью, нравственностью, равенством, были и другие, в которых «особенностью социально-экономической основы русской правовой мысли… являлось сохранение многочисленных пережитков крепостничества» [11, с. 64].
Гениальность созданных писателем образов общепризнанна, и центральный герой анализируемого романа не исключение. К нему в полной мере относится высказывание Д. И. Заславского: «В «Подростке» много сильных, ярких мест, много правдивых, жизненных образов. С обычным психологическим мастерством Достоевский проникает в душу своих героев, расследует их затаенные помыслы» [7, с. 64]. Причем важны нюансы и тонкости, характерыне для изображаемого времени.
Так, с увлечением Версилова либерализмом связано окрашенное комизмом описание начала связи родителей Аркадия, когда будущий отец был вдовцом с двумя детьми, а будущая мать — законной женой Макара, с которым обвенчалась за полгода до того. Отец вспоминает, что они с Софьей «прятались по углам, поджидая друг друга на лестницах..., и “тиран помещик” трепетал последней поломойки, несмотря на все свое крепостное право» [3, с. 15].
Без тени неловкости он, относящий себя к лучшей тысяче россиян, говорит о торге с Макаром, предметом которого были люди: «Я тогда предложил ему три тысячи рублей… мне вообразилось, что он меня боится, то есть моего крепостного права… если он не захочет… трех тысяч, вольной (ему и жене, разумеется) — и вояжа на все четыре стороны (без жены, разумеется)… Он на другой же день согласился на вояж… не забыв ни одной из предложенных мною наград» [3, с. 132–133].
Барина неприятно поразило, что бывший дворовый осмелился потребовать с него обещанное судом, что говорит об уме и предусмотрительности Макара, понявшего суть натуры своего господина, его легкомыслие, эгоцентризм, неспособность думать о других и финансово обеспечившего формальную супругу: «если бы… мать пережила г. Версилова, то осталась бы… без гроша на старости лет, когда б не эти три тысячи Макара..., давно уже удвоенные процентами и которые он оставил ей все целиком... Он предугадал Версилова даже в то еще время» [3, с. 134].
Будучи бесконечно выше мужа по нравственному уровню, Софья, так и оставшаяся полуграмотной, рабски служит ему как смиренная, безответная, трепещущая жертва. Муж воспринял модные в сороковые годы идеи, «то есть признал, что мужик — это тоже человек» и женщина должна иметь равные права с мужчиной [8, с. 590]. Однако на деле его жена ущемлена в правах, и сын «хочет прочного союза» между Версиловым и матерью, желает «вернуть навсегда» его ей [8, с. 593].
За нарушения моральных норм Версилов был наказан лишь дважды, когда за бесчестное поведение был отлучен от света и когда жених Катерины Ахмаковой Бьоринг посчитал ниже своего достоинства вызвать его на дуэль. Обычно же все сходило ему с рук, о чем Аркадий говорит: «Ничего ему не будет … никогда ему ничего не бывает; никогда ничего с ним не случится и не может случиться, это такой человек!» [3, с. 334].
Аркадий не сразу осознал свое положение. Этому поспособствовало его пребывание в пансионе Тушара, в котором он подвергался избиениям, унижению, инстинктивно, пытаясь защититься, прислуживал Тушару, не понимая причины своих страданий — низкого правового статуса: «Я старался из всех сил угодить и нисколько не оскорблялся, потому что ничего еще я этого не понимал…; был так еще тогда глуп, что не мог понять, как я им всем неровня. Правда, товарищи много мне и тогда уже объяснили, школа была хорошая. Тушар кончил тем, что полюбил более пинать меня коленком сзади, чем бить по лицу; …нет-нет, а в месяц раз наверно побьет…, чтоб не забывался» [3, с. 122]. Соученики, подражая директору, тоже изощрялись в издевательствах.
Так, из-за жестокости окружающих Аркадию уже в детстве пришлось осознать изъяны своего статуса, усвоить, что он, несмотря на свои способности и образованность, безродный, побочный сын и брат, неровня законным детям Версилова, что у него нет семьи, фамилии, привыкнуть, что путают два его отчества, снести унизительный визит к сводному брату и рукоприкладство со стороны Бьоринга, приказавшего лакеям схватить и удерживать юношу на глазах Ахма-ковой, в которую тот влюблен. Даже отец использует доверенную сыном тайну для клеветы на Ахмакову. Не принимавший участия в воспитании детей и неродной им Макар посчитал себя вправе почти требовать, чтобы их не выводили из низших сословий.
В разговоре с приятелем Ефимом Зверевым о возможности дуэли с князем Сергеем Сокольским с целью отомстить за обиженного Версилова юноша снова слышит, что дуэль может быть только с ровней. На его возражение, что он «тоже джентльмен по развитию», «имеет права» и «ровня», а князь, напротив, «неровня» ему, Ефим парирует:
« — Нет, ты маленький.
— Как маленький?
— Так маленький; мы оба маленькие, а он большой» [3, с. 144].
Похожая коллизия возникает, когда Аркадий, узнав о беременности Лизы от упомянутого князя, сомневается: имеет ли он как брат право вызвать того на дуэль. «А я вот и не знаю, как тут надо поступить честному человеку!.. Почему? Потому что мы — не дворяне, он — князь…, он нас, честных-то людей, и слушать не станет. Мы даже и не братья с тобой, а незаконнорожденные какие-то, без фамилии, дети дворового, а князья разве женятся на дворовых?», — говорит он ей [3, с. 302].
Из-за низкого статуса главного героя публично опозорили в подпольном игорном клубе, обыскав и назвав вором, и, хотя потом выяснилась несправедливость этих подозрений, никто не извинился перед ним. Даже опекавшая семью Пруткова обижает юношу, говоря, что у него лакейская душа. Она считает, что он должен быть благодарен Версилову за то, что его не отдали в сапожники. «Нет, ты не ценишь, что он тебя до университета довел и что через него ты права получил», — заявляет она.
Отделавшись от мальчика лишь платой за обучение, Версилов лишил его нормального семейного воспитания, любви и заботы родителей, сестры. Пострадали его человеческое достоинство, право на личную и семейную тайну и другие права и свободы. Версилов не может понять, что сыну нужно было не дворянство, а он сам как отец.
Он бесстыдно уверяет юношу, что он вполне законный сын Макара, что, говоря о незаконнорожденности, Аркадий клевещет и разоблачает материнскую тайну (что она до сих пор не Версилова), т. к. формально замужем за Макаром, умалчивая о собственной неблаговидной роли.
Себе же он дал право жить десятилетиями в незаконном союзе с Софьей и покидать ее, когда захочет «разжениться», состоя в фактическом браке, пытаться жениться на других дамах. Он не сдержал своего «дворянского слова» узаконить отношения с Софьей после кончины Макара. Вместо этого Версилов, следуя своей двойственной натуре, сделал предложение Ахмаковой.
Главный герой разоблачает безмерный эгоцентризм Версилова: «Живет лишь один Версилов, все остальное кругом него и все с ним связанное прозябает под тем непременным условием, чтобы иметь честь питать его своими силами, своими живыми соками» [3, с. 129].
Несмотря на то, что в молодости Версилов осуждал «родовые права», «деревни», несмотря на гуманные речи, которые он «говорил хорошо», для него непреодолим водораздел между ним, барином, дворянином, и Софьей, бывшей дворовой, ее детьми, «простыми сердцами», «народом», «этой средой», которых он чаще всего называет словом «они» и которых считает противоположностью себе, одному из «прекрасных людей». «Версилов не мог выкорчевать из себя высокомерного, помещичьи-аристократического отношения к людям», — отмечает В. Кирпотин [6, с. 591]. Не являются исключением даже самые близкие и родные, члены его семьи.
Не случайно из всех положительных черт Макара Версилов превыше всего ценит почтительность, которая, по его убеждению, «необходима для высшего равенства, мало того, без которой… не достигнешь и первенства» [3, с. 135], а суть этой почтительности состоит, как он считает, в покорном принятии всего предназначенного ему свыше, даже приниженного положения.
Ложность правового статуса молодого человека парадоксально подчеркивается громкостью фамилии, которую он вынужден носить и которая провоцирует неделикатных и неумных людей на обременительные и надоевшие ему расспросы: «…редко кто мог столько вызлиться на свою фамилью, как я, в продолжение всей моей жизни… Каждый-то раз, как я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым, по возрасту моему, был обязан отчетом, одним словом, каждый-то учителишка, гувернер, инспектор, поп — все кто угодно, спрося мою фамилью и услыхав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить:
— Князь Долгорукий?
И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным людям объяснять:
— Нет, просто Долгорукий.
Это просто стало сводить меня наконец с ума» [3, с. 9–10].
Зависимое положение может приводить к аберрации сознания, что показано на примере Макара, ужасно любившего и уважавшего «свою фамилью “Долгорукий”. Разумеется, это — смешная глупость. Всего глупее то, что ему нравилась его фамилья именно потому, что есть князья Долгорукие. Странное понятие, со- вершенно вверх ногами!» [3, с. 18]. Так думает юноша, чувствующий себя самостоятельной личностью с адекватным чувством собственного достоинства.
Аркадий презирает «ноющее по себе сиротство», утверждая, что «ничего нет омерзительнее роли, когда сироты, незаконнорожденные, все эти выброшенные…; к которым я нисколько вот-таки не имею жалости, вдруг торжественно воздвигаются перед публикой и начинают жалобно, но наставительно завывать: “Вот, дескать, как поступали с нами!” Я бы сек этих сирот. Никто-то не поймет из этой гнусной казенщины, что в десять раз ему благороднее смолчать, а не выть и не удостоивать жаловаться. А коли начал удостоивать, то так тебе, сыну любви, и надо» [3, с. 77]. По мнению Е. И. Семенова, утверждая это, герой «опирается на глубоко обоснованные человеческие права (в этом-то и смысл мотива полемики с “ноющими по себе сиротами”) и требования целого класса таких, как он» [10, с. 75].
В противовес приниженности герой грезит о свободе, силе, могуществе, «идее» стать как Ротшильд, но если у Раскольникова это вылилось в преступление, то Аркадий не способен на злодеяние: оно претит его «человеческой натуре», «его болению» за страдания людей, его желанию «облегчить их положение». Тем самым писатель стремится утвердить мысль, что «идея» может и не помешать добру, когда добрая натура берет верх над нею или когда она попадает в добрые руки [6, с. 68–69].
Как видим, писатель поднял целый комплекс проблем, касающихся многих болевых точек жизни российского общества, его прошлого и даже будущего, бытия и сознания своих современников. Говоря о «Подростке», М. С. Гус отмечает: это роман «о том, что таится в душе иного задумавшегося подростка из случайного семейства в «смутное время» 70-х гг. ХIХ в. в России» [2, с. 458].
Таким образом, Ф. М. Достоевский глубоко осмыслил проблему прав человека в условиях сохранившихся пережитков крепостного права, показал всю сложность правового положения рожденных вне брака детей, особенно детей дворовых. Он подверг резкой критике правовую и социальную несправедливость в российском обществе описываемого периода, призывая читателей к гуманности, добросердечию, милосердию, справедливости, установлению всеобщего равноправия.
Список литературы Проблематика прав человека в романе Ф. М. Достоевского «Подросток»
- Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Москва: Территория будущего, 2005. 800 с. Текст: непосредственный.
- Гус М. С. Идеи и образы Достоевского. 2-е изд., доп. Москва: Художественная литература, 1971. 592 с. Текст: непосредственный.
- Достоевский Ф. М. Подросток. Москва: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1961. С. 7–582. Текст: непосредственный.
- Дробышевский В. С. Право и культура: Социально-философский аспект теории российского права. Чита: Изд-во Забайкал. ин-та предпринимательства Сиб. ун-та потребит. кооперации, 1997. 192 с. Текст: непосредственный.
- Дробышевский В. С. Социология права. Вып. 1. Теория, история и проблемы ценностно-культурологического анализа. Чита: Изд-во Забайкал. ин-та предпринимательства Сиб. ун-та потребит. кооперации, 1997. 69 с. Текст: непосредственный.
- Ермакова М. Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе ХХ в. Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1973. 320 с. Текст: непосредственный.
- Заславский Д. И. Ф. М. Достоевский: Критико-биографический очерк. Москва: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1956. 80 с. Текст: непосредственный.
- Кирпотин В. Роман Достоевского «Подросток» // Достоевский Ф. М. Подросток. Москва: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1961. С. 583–609. Текст: непосредственный.
- Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. Москва: Наука, 1981. 368 с. Текст: непосредственный.
- Семенов Е. И. Роман Достоевского «Подросток» (проблематика и жанр). Ленинград: Наука, 1979. 168 с. Текст: непосредственный.
- Сонин В. В., Федоров В. П. Правопонимание в дореволюционной немарксистской юридической мысли России // Государственный строй и политико-правовые идеи России второй половины ХIХ столетия: межвузовский сборник научных трудов. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. С. 60–68.