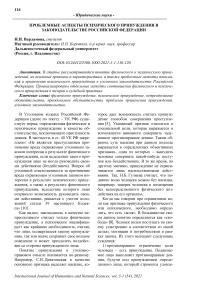Проблемные аспекты психического принуждения в законодательстве Российской Федерации
Автор: Варламова Н.И.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 3-1 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются понятие физического и психического принуждений, их основные признаки и характеристика, а также проблемные аспекты понимания и применения психического принуждения в уголовном законодательстве Российской Федерации. Проанализированы отдельные аспекты соотношения физического и психического принуждения в теории и судебной практике.
Физическое принуждение, психическое принуждение, непреодолимые обстоятельства, преодолимые обстоятельства, проблемы применения принуждений, уголовное законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/170190925
IDR: 170190925 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-3-1-116-120
Текст научной статьи Проблемные аспекты психического принуждения в законодательстве Российской Федерации
В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ) существует норма, определяющая физическое и психическое принуждение в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния. В частности, в ст. 40 УК РФ закреплено: «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате психического принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями, решается с учетом положений статьи 39 настоящего Кодекса» [10].
Как видно, законодатель в качестве непреодолимого считает только физическое принуждение, а психическое квалифицирует как крайнюю необходимость, считая, что лицо, подвергшееся такому принуждению, так или иначе сохраняет свое волевое поведение и может преодолеть воздействие со стороны принуждаемого лица.
Понятие принуждения в уголовноправовом смысле понимается по-разному. Например, С.В. Девятовская в качестве основного признака выделяет насилие, ко- торое дает возможность считать принуждение способом совершения преступления [5]. Указанный признак относится к специальной цели, которая выражается в возможности виновного совершить задуманное противоправное деяние. Таким образом, суть насилия при данном подходе выражается в определенных объективных признаках, один из которых - вынудить человека совершить какой-нибудь поступок или бездействовать. В то же время, по другому мнению, принуждение не ограничивается лишь насильственными действиями. Так, Н.Б. Гулиева считает, что подавить волю человека можно без насилия, например, заперев человека в помещении без непосредственного физического воздействия на его организм.
Когда мы говорим про ограничение воли как признаке принуждения физического или психического, необходимо определить, что есть «воля». В большинстве своем данное понятие определяется как «свобода» [8]. Человек волен поступать по своему усмотрению в соответствии со своей целью, мотивами и потребностями в рамках закона. Из этого вытекают следующие суждения:
1)противоправное ограничение воли человека - есть принуждение. Подавляемое лицо выполняет противоправные деяния, будучи под принуждением определенного лица, который стремится удовле- творить собственные потребности посредством другого человека, ограничивая его возможности предотвращения противоправных действий;
2) под любым видом принуждения (физического или психического) понятие воли искажается в своем смысле, что говорит о том, что у подавляемого лица отсутствует воля.
Из этого, как представляется, можно сделать следующий вывод: принуждением считается неправомерное воздействие на человека, с целью заставить его совершить противоправные деяния, направленные на удовлетворение требований принуждающего лица, подчинению его воли, изменение своего поведения.
Определившись с понятием принуждения в целом, обратимся к физическому и психическому принуждению. Законодатель не дает четкого определения понятия как физического, так и психического принуждения, он лишь признает, что преступность деяния исключается, если оно было совершено посредством физического принуждения и лицо не могло руководить своими действиями. Но согласно ч. 2 ст. 40 УК РФ, законодатель не считает обстоятельством, исключающим преступность деяния психическое принуждение. Данная часть статьи отсылает нас к институту крайней необходимости, закрепленной в ст. 39 УК РФ. Связано это с тем, что по мнению законодателя, психическое принуждение в отличие от физического, всегда является преодолимым явлением.
Рассмотрим в чем заключаются основные различия в понимании физического и психического принуждения, каковы их основные признаки. Так, Н.Б. Гулиева определяет физическое принуждение как «воздействие на волю подавляемого лица, осуществляемое с целью обязать его выполнить выгодные для понуждающего лица действия или воздержаться от выполнения определенных действий» [5]. В целом, данное понятие раскрывает характер и признаки принуждения: наличие подавляемого лица, наличие понуждающего лица, цель понуждающего лица, «безвыходность» ситуации, противозаконные действия (бездействия), подавление воли. Пси- хическое принуждение этим же автором определяется следующим образом: психическое насилие представляет собой информационное воздействие на человека, влияние на его волю, содержание которого выражается в угрозе применения физического насилия [5].
Схожее определение приведено Л.В. Григорьевой: физическое принуждение предполагает воздействие на организм человека, ткани человека, части тела, в результате которого страдает его физическое здоровье либо физическая неприкосновенность. Психическое воздействие выделяется по признаку места «приложения силы», т.е. сюда относятся любые способы манипулирования сознанием человека, с целью заставить его совершить необходимые манипулятору поступки [4].
Л.В. Мацупа, Ю.В. Олейник полагают, что психическая или физическая невозможность руководить своими действиями означает, что особенности психики и физиологии человеческого организма не позволили лицу, адекватно относившемуся к действительности, избежать выполнения преступного требования [8]. Исходя из данного мнения, мы видим, что авторы отнесли психическое принуждение к непреодолимым обстоятельствам. В частности, такого же мнения придерживается А.А. Иванова, которая не согласна с позицией законодателя в том плане, что психическое принуждение является преодолимым явлением: «законодатель как бы заранее определяет, что психическое принуждение преодолимо всегда. Хотя это не совсем так. Законодатель оставляет вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате психического принуждения почти однозначный ответ. Это нередко ставит правоприменителя в затруднительное положение» [7]. С данной позицией мы полностью солидарны, учитывая тот факт, что физические и психические возможности у разных людей различаются. Утрата волевого поведения может исключаться при любой степени физического или психического воздействия, будь то сильное подавление или выраженное в меньшей степени. Поэтому для правопри- менителя при квалификации принуждения решающее значение должен иметь тот факт, что у лица была парализована своя воля, что привело к невозможности волеизъявления.
Некоторые авторы согласны с законодателем. В частности, О.Ф. Воспякова пишет, что психическое принуждение в отличие от физического принуждения является преодолимым, так как, несмотря на угрозы, лицо сохраняет возможность действовать по своему усмотрению [3]. Какие обстоятельства можно считать непреодолимыми при психическом принуждении? В теории уголовного права и судебной практике указывается на такие способы психического принуждения как гипноз, электронная стимуляция мозга, введение в организм человека наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ, способных лишить принуждаемого сознания. В своей научной работе И.Ю. Янина выдвигает такую позицию, что квалифицировать данные способы под физическим или психическим принуждением весьма трудно, поскольку способы принуждения, направленные на блокирование сознания, сочетают в себе признаки и физического, и психического принуждения. Использование при принуждении подобных способов направлено на полное подавление свободы воли при помощи предварительного лишения принуждаемого сознания. Поэтому есть все основания для того, чтобы признать применение средств, блокирующих сознание, непреодолимым принуждением [11].
На наш взгляд, принуждение посредством гипноза имеет много спорных моментов, поскольку лицо, на которое будет такое воздействие оказываться, изначально должно дать согласие на это. Ведь гипноз -это сложный психологический процесс, который требует сосредоточенности, концентрации, но с другой стороны, возможно и то, что согласившемуся лицу не будет известно, в каких целях происходит данное принуждение. Исходя из таких нюансов, можно сделать вывод, что отнесение законодателем психического принуждения исключительно к преодолимым обстоя- тельствам является весьма категоричным решением.
Некоторые сторонники этой позиции наглядно демонстрируют, что не все обстоятельства, связанные с психических принуждением, стоит расценивать по ст. 39 УК РФ, так как они в наибольшей степени выходят за рамки крайней необходимости и обусловлены более высоким давлением на человека. Так, О.В. Мизина пишет: «угроза лишить жизни само принуждаемое лицо или его близких должна рассматриваться как психическое принуждение высшей степени. Поэтому, если кассир банка под угрозой смерти отдает преступникам ключи от сейфа с деньгами и сообщает код замка, он действует в состоянии крайней необходимости. В случае, когда под угрозой немедленной смерти или угрозой убить, подвергнуть пыткам, например, детей потерпевшего его принуждают совершить убийство, то спасение себя, своих близких за счет жизни другого человека должно рассматриваться как превышение пределов крайней необходимости» [9]. Очевидно, что если состояние крайней необходимости не усматривается, либо имеет место превышение ее пределов, примененное к лицу психическое принуждение может рассматриваться как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Справедливо и замечание, что в ч. 2 ст. 40 УК РФ, происходит сужение количества развития событий, при котором остаются лишь два варианта поведения. И в результате любого из них будет плохо принуждаемому, либо другим лицам, а наступление вреда остается неизбежным. Данная ситуация четко показывает разграничение свободы воли или просто выбор альтернативных вариантов. У принуждаемого лица в действительности нет свободы и сокращение характеристики преодолимого принуждения до двух вариантов, по мнению автора, низводит институт ст. 40 УК РФ до частного случая крайней необходимости, учитывая то, что законодатель буквально «настаивает» на предложенной аналогии, ссылаясь на ст. 39 УК РФ [4].
Как показывает судебная практика, в большинстве случаев суд критично отно- сится к наличию факта как физического, так и психического принуждения, как исключающих преступность деяния. Так, в апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ на обращение адвоката с просьбой отменить обвинительный приговор в отношении Б. как незаконный и постановить оправдательный приговор, указано следующее. Б. признана виновной и осуждена за разбой, то есть нападение в целях хищения имущества, принадлежавшего П. совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с при- чинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, а также за убийство, то есть умышленное причинении смерти П. совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление. По мнению осужденной и ее адвоката, у суда имелись основания применить положения ст. 40 УК РФ, поскольку она совершила ряд действий в отношении потерпевшей под влиянием угрозы убийством со стороны С. Но данная версия совершенно обоснованно получила критическую оценку со стороны суда, так как осужденный С. подтвердил наличие предварительного сговора с Б. на хищение денежных средств потерпевшей, отметив также, что действия по лишению жизни потерпевшей совершались по его предложению, он также поджег дом потерпевшей, используя огнеопасную жидкость. Никакого непреодолимого принуждения со стороны С. в отношении Б. не установлена, которая могла отказаться от совершения преступления. Поэтому отсутствуют основания применения положений ст. 40 УК РФ [1].
В следующем апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ по жалобе О. также не было установлено обстоятельств, исключающих преступность деяния на основании ст. 40 УК РФ. В апелляционной жалобе осужденный О. посчитал приговор чрезмерно суровым и попросил исключить из приговора его осуждение за угон, ссылаясь на то, что в сговор с Ж. не вступал, а оказал на него давление с карабином в руках высказывая угрозы, с целью скрыться с мета преступления. Судебная коллегия, проверив материалы дела, установила, что противоречия в показаниях О. в части того, угрожал он Ж. или нет, не могут повлиять на наличие в его действиях состава преступления и их квалификацию, по- скольку, как видно из установленных судом фактических обстоятельств дела, оснований утверждать, что О. было применено к Ж. принуждение, предусмотренное ст. ст. 39 и 40 УК РФ, не имелось [2].
Таким образом, проанализировав ряд судебных решение и мнения ученых-юристов, можно сделать следующие выводы: физическое принуждение – это непосредственно физический контакт на потерпевшего, с одновременным воздействием на волеизъявление определенного человека, с целью обязать его выполнить противоправные действия, направленные на удовлетворение требований подавляющего лица. В свою очередь, психическое принуждение – это подавление воли лица посредством настраивания и склонения его к различным противоправным действиям. Проблема отнесения психического принуждения к обстоятельствам, исключающим преступность деяния на сегодняшний день остается актуальной и незавершенной. Необходимо, на наш взгляд, нормативное закрепление определений физического и психического принуждения, а также более четкие критерии преодолимого насилия.
Список литературы Проблемные аспекты психического принуждения в законодательстве Российской Федерации
- Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.07.2020 г. N 7-АПУ20-2 // СПС Консультант плюс
- Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.05.2017 г. N 72-АПУ17-11 // СПС Консультант плюс
- Воспякова О.Ф. Физическое и психическое принуждение: уголовно-правовая оценка // Правовая культура в современном обществе. - 2020. - С. 308-311.
- Григорьева Л.В. Перспективы развития института физического и психического принуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2020. - №4 (135). - С. 115-121.
- Гулиева Н.Б. Физическое и психическое принуждение // Правовые проблемы укрепления Российской государственности. - 2011. - С. 16-18.