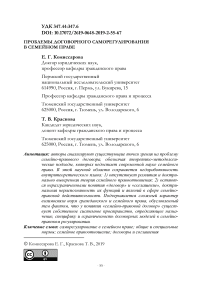Проблемы договорного саморегулирования в семейном праве
Автор: Комиссарова Е.Г., Краснова Т.В.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское право
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Авторы анализируют существующие точки зрения на проблему семейно-правового договора, обозначая теоретико-методологические подходы, которых недостает современной науке семейного права. В этой научной области сохраняется недоработанность внутритеоретического плана: 1) отсутствует развитая и доктринально выверенная теория семейного правоотношения; 2) остаются неразграниченными понятия «договор» и «соглашение», доктринальная нераспознанность их функций и явлений в сфере семейно-правовой действительности. Подчеркивается сложный характер взаимосвязи норм гражданского и семейного права, обусловленный тем фактом, что у понятия «семейно-правовой договор» существует собственное системное пространство, определяющее назначение, специфику и ограниченность договорных моделей в семейно-правовом регулировании.
Саморегулирование в семейном праве, общие и специальные нормы, семейное правоотношение, договоры и соглашения
Короткий адрес: https://sciup.org/147230043
IDR: 147230043 | УДК: 347.44:347.6 | DOI: 10.17072/2619-0648-2019-2-55-67
Текст научной статьи Проблемы договорного саморегулирования в семейном праве
П роблема договорного регулирования в современной науке семейного права достигла высокого науковедческого уровня и продолжает набирать обороты. Тематика публикаций и их число значительно расширили привычные границы, ограниченные ранее проблемами брачного договора и договора о суррогатном материнстве. На доктринальной высоте прозвучали основополагающие вопросы проблематики семейно-правовых договоров1.
Постепенно обозначились и направления в развитии учения о семейноправовом договоре в целом в виде «разработки понятийного аппарата и общих положений о договоре в семейном праве; расширения сферы применения семейно-правового договора; унификации правового регулирования однотипных по своей природе договорных отношений; разработки положений о договорной ответственности и обеспечении исполнения семейно-правовых договорных обязательств; совершенствования отдельных семейно-правовых институтов»2.
Нетрудно увидеть методологическую родственность подходов, выбранных для исследования договорной тематики в науке семейного права, с подходами, принятыми в законотворческой и исследовательской практике в области гражданского права. Подобное сходство принимается не всеми представителями науки семейного права. Одни авторы хотят полностью отмежеваться от гражданско-правовых договоров (Е. А. Чефранова, С. Ю. Чашкова, Н. Ф. Звенигородская), другие же, напротив, не стремятся отвергать сопряженность гражданско-правовых и семейно-правовых договоров (М. В. Антокольская, Н. Н. Тарусина, Е. Н. Некрасова). Весьма предусмотрительна в этой связи позиция В. Ф. Яковлева, призывающего к пониманию того, что в этой сфере договору «как средству регулирования семейных отношений решающая роль отнюдь не принадлежит» и он «в сравнении с гражданским правом имеет весьма ограниченное применение и значение»3. А. Л. Нечаева считает, что нет достаточного обоснования необходимости введения в Семейный кодекс РФ института семейно-правовых договоров4. Есть и более радикальная точка зрения, способная потеснить любой вариант договорного регулирования в семейном праве в сторону увеличения административного ресурса в этой сфере5.
Эти разногласия и пути их доктринального преодоления дают основания считать, что динамика развития теории семейно-правового договора идет не вглубь, а вширь. Причин подобного положения две. Одна из них – в наличии теоретических проблем внутри самой семейно-правовой науки. Вторая – в полном отсутствии теоретико-методологических основ учения о согласительном саморегулировании в семейном праве. Как следствие, отсутствует и общеустановленное понимание роли, места семейно-правовых договоров и соглашений в ряду других инструментов регулирования семейных отношений.
Если говорить о внутритеоретических проблемах семейно-правовой науки, то нельзя не заметить, что проблематика договорного саморегулирования не имеет под собой достаточных доктринальных опор. К числу недостающих относится учение о семейном правоотношении. Оно по сей день остается неразвитым, как и учение о субъективных семейных правах, а также юридических фактах возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. В этом смысле «нарождающиеся» выводы науки семейного права о семейном правоотношении, возникающем из договора, можно отнести к необходимым и полезным трудам опережающим6, однако опережающим общую теорию семейного правоотношения7.
Научные идеи договорного саморегулирования так или иначе опираются на теорию субъективных семейных прав и обязанностей как неотъемлемую часть целого – семейного правоотношения. Здесь мы исходим из того, что саморегулирование в семейном праве – это в первую очередь ответ на вопрос о том, на какие субъективные права (и обязанности) участников семейных отношений можно влиять с помощью договоров и соглашений. Однако пока в таком ракурсе вопрос в доктрине семейного права почти не ставится и подобная отстраненность науки семейного права от проблем семейного правоотношения оказывается далеко не лучшим фоном для исследования такой производной проблематики, как семейно-правовой договор и его роль в регулировании семейных отношений. Собственно, в этом и состоит причина того, что на сегодня теоретически нераскрытыми остаются такие теоретически и практически значимые категории семейного права, как правообразующие и правоизменяющие юридические факты, семейная правосубъектность, субъективные семейные права и границы их осуществления. Все они предполагаются быть задействованными в доктринальной теории семейно-правового договора, заключение которого является одним из способов реализации семейной правосубъектности.
О сложном социальном контексте семейных правоотношений, в виде их «замкнутости и психологической неуловимости», в свое время говорил
Г. Ф. Шершеневич8. Не исключено, что современной науке семейного права так и не удалось преодолеть эту «неуловимость». В то время как практика правореализации и правоприменения нуждается в достижении определенности по вопросам семейного правоотношения. Однако доктрина, по словам С. В. Сарбаша, выступающая «ассистентом суда, которая и подает ему необходимые инструменты для решения конкретной задачи9, по этому вопросу умалчивает. Мало увидеть в семейно-правовом договоре юридический факт, как это происходит практически в отношении любого договора, не менее важно то, что органы правоприменения в случае возникновения спора видят договор в качестве акта правоотношения. Отсутствие устоявшейся теории семейно-правового договора и безответное состояние теоретического вопроса о том, способна ли конструкция семейно-правового договора обрести самостоятельное существование в семейном законодательстве, однако не исключило появления ее естественного продолжения в виде суждений по вопросу о свободе договора в семейном праве. Анализ имеющейся судебной практики показывает, что катализатором этих суждений является запрос со стороны правоприменения, когда предпринимаются не всегда успешные попытки приспособить фундаментальный гражданско-правовой принцип свободы договора к семейно-правовым договорам10 при использовании инструмента ex post – контроль договорной свободы (принципы добросовестности; запрет обхода закона; запрет на сделки, нарушающие публичный порядок и основы нравственности; правила о справедливости условий отдельных договоров и т. п.). Нельзя не увидеть, что по отдельным семейно-правовым имущественным спорам аналогия принципа свободы договора выглядит простым механическим действием11.
Невозможно рассуждать о принципе свободы договора в семейном праве и законодательстве, если не учитывать, что системообразующим фактором в этой области является правоотношение семейное со всей его (неизведанной) спецификой, отражающей социально-нормативную сущность всего семейного права. Несмотря на свою родословную в недрах права гражданского, это не гражданское правоотношение, ориентированное на развитые товарообменные операции, носящие характер экономических трансакций.
Начало свободы договора, как и начало социально-экономического наполнения в гражданском праве, на самом деле не ограничивается учебными формулировками о праве лица решать заключить договор или не заключить, выбрать вид договора и сформулировать самостоятельно его условия. Это еще и обязательственные критерии, имущественные риски, гражданско-правовая ответственность на случай неисполнения условий договора. Об этих аналогах при перенесении принципа свободы договора в семейное право задумываются мало, как и и том, что если стороной семейно-правового договора является один из супругов, то второй супруг дает (устное, письменное, нотариальное) согласие на его заключение, что не позволяет говорить о самостоятельном выборе права заключать договор или нет.
К нормам, определяющим критерии разграничения сфер участия гражданского и семейного законодательства в регулировании семейных правоотношений, отнесены статьи 4 и 5 СК РФ. Однако они не содержат полноценного решения относительно порядка разрешения возможных коллизий. Для этих целей законодатель предопределил умозрительные ограничители, такие как дух (смысл) семейного законодательства, мораль и нравственность, сущность семейных правоотношений. Вряд ли этого достаточно при существующей сложности гражданского законодательства, а также при недостаточных полноте и совершенстве действующего семейного законодательства (начиная со ст. 1 СК РФ). Что же касается доктрины, то ее внимание к вопросам конкуренции законодательства семейного и гражданского в части договорного регулирования только начинает зарождаться 12.
Нельзя не отметить, что позиция гражданского права в части регулирования семейных имущественных отношений намного сложнее, чем это выражено в ст. 4 и 5 СК РФ. Во-первых, в гражданском праве традиционно принято считать, что понятие о договоре является частным случаем понятия о сделке. Поэтому к гражданско-правовым договорам по общему правилу применяются нормы о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 ГК РФ. Всякая сделка направлена совершившим ее лицом или лицами на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, и поэтому без института сделок понять гражданское право невозможно. Предмет семейно-правового регулирования и его системообразующие понятия выстроены на иных категориях: брак, родство в случаях, указанных в законе, свойство, принятие детей в семью на воспитание и др., – придающих имущественным отношениям в семье или по поводу семьи существенную специфику. Эти сущностные различия исключают простую аналогию гражданско-правовых норм для регулирования семейных имущественных отношений. Для целей размежевания и установления определенности законодательных приоритетов семейному законодательству необходима, как выразился А. Л. Маковский, собственная «лестница» обобщений. Данный прием предполагает движение от общего к частному и состоит в том, что «нормы более высокой ступени (более общие по содержанию) представляют собой как бы вынесенные за скобки правила, применяемые к более конкретным нормам низлежащих ступеней»13. Подобная структура расположения норм о договорах и соглашениях в нормах СК РФ пока не просматривается.
Одним из вариантов такой «лестницы» может быть совокупность следующих элементов: а) перечень необходимых законодательных словоупотреблений в Общих положениях СК РФ в виде обозначения тех законодательных понятий, которые стоят за терминами «семейно-правовой договор» и «семейно-правовое соглашение» в их отраслевом значении; б) самостоятельная глава в структуре СК РФ с аккумуляцией общих правил о договорном саморегулировании в семейном законодательстве с обозначением, их координации и порядка размежевания с нормами ГК РФ; в) отдельный блок специальных норм о конкретных видах договоров и соглашений с легальным указанием на порядок их соотношения с общими положениями СК РФ о семейно-правовых договорах и Общими положениями ГК РФ о договорах.
Как известно, разделение законодательных норм на общие и специальные проводится в зависимости от их назначения. Общие нормы предназначены для всех субъектов, поскольку в них закреплены правила поведения без учета каких-либо особенностей экономической и иной деятельности. Различие общих и специальных норм может заключаться в объеме правового регулирования, поскольку специальная норма, в отличие от общей, регулирует не все виды предметных отношений, а лишь часть этих отношений, представляя собой некое изъятие из правил, заключенных в общей норме. Специальные нормы отражают особенности правового регулирования в отдельных областях. Практическое же значение такого деления норм заключается в том, что специальным нормам в процессе правоприменения отдается предпочтение перед общими. Нормы общие применяются лишь тогда, когда соответствующее отношение не урегулировано либо не в полной мере урегулировано в нормах специальных.
Что же касается ограничительных средств в семейно-договорном саморегулировании, то их виды, с учетом предметных характеристик семейного законодательства и сущности семейных отношений, имеют свои особенности. Эти особенности могут и должны быть выражены на уровне норм семейного законодательства, которые по отношению к нормам ГК РФ о договоре будут считаться специальными.
В середине ХIХ в. основоположник российской цивилистики Д. И. Мейер утверждал, что договоры в семейном праве нужны только для одной цели – «уразумения имущественной стороны» семейных отношений»14. Согласно современной законодательной практике это «уразумение» включает: брачный договор (гл. 8 СК РФ); договор о разделе общего имущества супругов (п.2 ст. 38 СК РФ); договор об определении долей в общем имуществе супругов (п. 1 ст. 39 СК РФ). Личные неимущественные отношения в семье законодатель охватывает как термином «соглашение»: об определении места жительства детей при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ); о порядке осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем (п. 2 ст. 66 СК РФ); об уплате алиментов (гл. 16 СК РФ); так и термином «договор»: о суррогатном материнстве, об осуществлении опеки или попечительства (п. 6 ст. 145 СК РФ); о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ (п. 6 ст. 145 СК РФ); о приемной семье (ст. 152 СК РФ). Можно утверждать, что принцип свободы договора в семейном праве имеет отношение только к поименованным договорам и соглашениям и не может выходить за пределы императивных норм об этих договорах и соглашениях.
Законодательная мотивация, ставшая поводом для легального использования в семейном праве понятий «договор» и «соглашение» как раздельных, не ясна. Поэтому сегодня и судебная практика отождествляет либо находит в них различия по собственному усмотрению.
Перечень договоров и соглашений является сборным, а вопрос о его исчерпанности также оставлен на усмотрение судебной практики и доктрины. Одни ученые полагают его закрытым (Е. П. Титаренко, С. Ю. Чашкова, О.Ю. Ильина), другие указывают на его незамкнутость (Н. Ф. Звенигородская, Л. А. Хурцилава) и не исключают возможность его дополнения (А. В. Белов, Л. А. Хурцилава, Е. А. Татаринцева).
Что же касается законодательных перспектив относительно систематики норм о семейно-правовых договорах и соглашениях, то положения Концепции развития семейного законодательства характеризуются отсутствием каких-либо концептуальных подходов и эволюционных положений, относящихся к проблематике семейно-правовых договоров и соглашений. Так, п. 7 Концепции гласит, что СК РФ следует «дополнить статьей о семейноправовых договорах, их целевом назначении и разновидностях» по причине пробельности существующих норм.
Термин «соглашение» не является полностью новым для семейного законодательства России, а потому у современного законодателя были основания задуматься о предлагаемой им дихотомии терминов, а следовательно, и о разности этих законодательных понятий. Тем более, что редкие виды соглашений в семейных отношениях были известны послереволюционным законодательствам, чуть шире их круг стал в Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 г.: соглашение супругов о месте проживания детей после расторжения брака их родителей и выплате средств на содержание детей (ст. 34); о порядке определения фамилии ребенка по соглашению его родителей (ст. 51); о порядке участия родителя, проживающего отдельно от детей, в их воспитании (ст. 56); о размере и порядке уплаты алиментов на несовершеннолетних детей (ст. 67).
Сегодня можно выделить несколько доктринальных подходов к оценке факта использования в законе понятий «договор» и «соглашение». Один – «по умолчанию», когда авторы употребляют их как имеющуюся законодательную данность без специального обсуждения. Второй подход, не без привлечения цивилистических достижений, тяготеет к тому, что «договор» и «соглашение» – понятия синонимичные. Есть и третий, условно суррогатный, объединяющий оба этих понятия с помощью таких терминов, как «отношения по договорному варианту», «отношения, выстроенные на основе договоренностей», «отношения договорной природы». Иногда в эту же строку попадают «обоюдное согласие», «взаимное согласие».
Базовым понятием в определении договора бесспорно является «соглашение». Однако законодательная практика дает немало примеров, когда соглашения не дорастают до договора и не обретают в связи с этим самостоятельного значения, оставляя совпадение волевых проявлений субъектов в разряде элементов фактического состава. Для цивилистов это одна из причин того, чтобы задаться вопросом о разграничении этих понятий, а точнее, о том, что понятие соглашения может быть как родовым, так и видовым15. Авторы известного гражданско-правового пятикнижья по договорному праву
Е. Г. Комиссарова, Т. В. Краснова ________________________________________________ прямо отмечают, что «если в соглашении отсутствует признак его направленности на возникновение взаимных прав и обязанностей (правоотношения), то нет и оснований для отождествления соглашения с договором»16.
Трудно уловить ту причинность, которой руководствовался законодатель, давая одним конструкциям название договора, другим – соглашения. Представляется, что наименование «договор» в нормах СК РФ больше тяготеет к тем отношениям, в которых просматривается относительная разнона-правленность интересов сторон. В то время как статус соглашения получили те саморегулируемые отношения, в которых цели их участников однонаправленны.
Завершая статью, отметим, что теория согласительного регулирования применительно к вопросам реализации семейных прав и обязанностей, выстраиваемая с учетом таких автономных конструкций, как договор и соглашение, не относится к простым. В основе семейных правоотношений лежит, прежде всего, нравственный императив. Поэтому нельзя не признать, что нужны полновесные научные дискуссии, не преувеличивающие, но и не преуменьшающие роль и значение индивидуального регулирования в семейном праве. Преувеличивая, можно исказить сущность семейных правоотношений, а также уменьшить ту предельную границу публичного начала в семейном праве, которая была и остается значимой в любом государстве ввиду его обязанности заботиться о семье, оказывая ей необходимую адресную поддерж-ку17. Преуменьшать – значит не считаться с новым социальным и правовым обликом того типа «буржуазной» семьи, который сегодня не безболезненно складывается в современной России.
Необходимы и соответствующие теоретико-методологические подходы, которые науке семейного права предстоит разработать. Как представляется, методологически к вопросам договорного регулирования в семейном праве надлежит подходить с двух позиций. Первая – сугубо умозрительная, но в не меньшей мере связанная с правовой, с признанием тех внеправовых возможностей договоров и соглашений в семейном праве, которые обретают свое значение в этой области как важные средства по установлению повсе- дневного коммуникативного правопорядка в семейных отношениях. Вторая позиция: в правовой плоскости анализа семейно-правового договора (и соглашения) следует исходить из его реального назначения – индивидуально регулировать такого рода отношения, тотальный контроль над которыми со стороны государства, а также его вмешательство являются излишними. Надо признать, что случаев реализации субъективных семейных прав и обязанностей посредством договоров и соглашений в семейном праве немного, но они есть и требуют учета их специфики. А потому необходимо преодолеть привычное утверждение о том, что «семейные отношения регулируются нормами права и нормами нравственности». Оперировать следует «также актами индивидуального договорного регулирования, названными в законе». Пределы реализации субъективных семейных прав и обязанностей посредством индивидуального регулирования надлежит установить в нормах СК РФ.
При этом нужно исходить из того, что предельный уровень обобщенности понятия «семейно-правовой договор» ограничен тем системным пространством, которое создано семейно-правовым регулированием. Этой инфраструктуре пока не достает собственной доктринальной полноты в части идентификации собственно семейно-правовых отношений и их содержания, сдерживающей исследование проблем саморегулирования в концептуальном смысле, т. е. с точки зрения теории субъективных семейных прав и обязанностей. В ином случае сетования по поводу избыточности гражданско-правового регулирования в семейном праве имеют все шансы стать бессмертными.
Список литературы Проблемы договорного саморегулирования в семейном праве
- Василевская Л. Ю. Договор и соглашение в гражданском праве: критерии разграничения понятий // Юрист. 2017. № 22.
- Белов В. А. Перспективы развития общего понятия о договоре и принципа свободы договора в российском частном праве // Свобода договора: сб. ст. / отв. ред. М. А. Рожкова. М.: Статут, 2016.
- Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. М.: Статут, 2002. Кн. 1: Общие положения.
- Дерюшева О. И. Правовой режим недвижимого имущества супругов / под науч. ред. Ю. Н. Андреева. М., 2011.
- Звенигородская Н. Ф. Проблема правовой природы договоров в семейном праве в свете межотраслевых связей гражданского и семейного права // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. № 2(2).