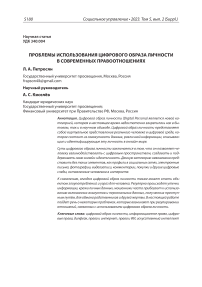ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗА ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Автор: Петросян Л. А.
Журнал: СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: Т. 5, вып. 2S, 2023 года.
Бесплатный доступ
Цифровой образ личности (Digital Persona) является новой категорией, которая в настоящее время недостаточно закрепилась как в бытовом, так и в научном обиходе. Цифровой образ личности представляет собой виртуальное представление реального человека в цифровой среде, которое состоит из совокупности данных, различной информации, описывающие и идентифицирующие эту личность в онлайн-мире. Суть цифрового образа личности заключается в том, что он позволяет человеку взаимодействовать с цифровым пространством, создавать и поддерживать свою онлайн-идентичность. Данную категорию невозможно представить без таких элементов, как профили в социальных сетях, электронные письма, фотографии, видеозаписи, комментарии, покупки и другие цифровые следы, оставленные человеком в интернете. К сожалению, сегодня цифровой образ личности также может стать объектом злоупотреблений и угроз для человека. Регулярно происходят утечки информации, кражи личных данных, мошенники часто прибегают к использованию взломанных аккаунтов и персональных данных, полученных преступным путём, для обмана родственников и друзей жертвы. В настоящей работе пойдет речь о некоторых проблемах, которые возникают при регулировании отношений, связанных с использованием цифрового образа личности.
Цифровой образ личности, информационное право, цифровые права, дипфейк, право и интернет, право и ИИ, искусственный интеллект
Короткий адрес: https://sciup.org/14127915
IDR: 14127915 | УДК: 340:004
Текст статьи ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗА ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Цифровой образ личности является важным аспектом нашей современной жизни, поскольку он отражает наше онлайн-присутствие и влияет на то, как нас воспринимают другие люди и организации в сети. Он также может быть использован для авторизации и аутентификации в различных онлайн-сервисах и платформах. Примечательно, что некоторые зарубежные и отечественные компании при подборе потенциальных работников используют социальные сети для поиска личных страничек кандидатов на должность, а также оценивают человека по тому материалу, которые он сам размещает в открытом доступе. Зачастую страницы в социальных сетях и личные блоги/влоги говорят о человеке гораздо больше, чем может сказать он сам.
Рассматривать сущность цифрового образа личности, согласно нашей позиции, можно на примере «цифрового бессмертия» — категории, получившей новое развитие ввиду стремительного совершенствования информационно-телекоммуникационных технологий.
Описание исследования
В современной литературе нет общепринятого четкого определения, что следует понимать под цифровым бессмертием. Однако отметим, что существует два основных подхода к трактовке данного термина. Сторонники первого подхода полагают, что личность человека можно рассматривать как совокупность данных о нём, существующую отдельно от него самого, то есть от физического тела непосредственно. Так, многие компании продвинулись в создании нейронных сетей, которые путём анализа большого количества информации о человеке, могут сформировать программу, наделённую памятью, креативностью, характером, привычками и иными чертами реально существующего человека. Любая информация о человеке, включая фотографии, видеозаписи, переписки, комментарии, может стать пазлами для создания цифрового образа личности умершего человека. К примеру, относительно недавно была запущена нейросеть «Жириновский», которая активно копирует поведение политика и может отвечать на многие вопросы. Причем, искусственный интеллект копирует мимику, жесты, темперамент, манеру речи понимая, когда следует вести серьёзный разговор, а когда можно пошутить и разрядить обстановку. Разумеется, всё это является лишь набором алгоритмов и о полноценном воспроизведении личности человека здесь не может идти речи. Данный подход не лишён недостатков, в том числе этического характера.
Второй подход предполагает возможность сохранения личности человека в цифровом пространстве после смерти физического тела. В научной фантастике такие идеи укоренились еще в прошлом столетии, к примеру, данная концепция отражена в фильме «Трон» 1982 года. Фактически стоит вопрос о точном копировании личности человека в цифровой форме. Д. Е. Подсмашный и Н. В. Сафронова отмечают: «Эту процедуру можно назвать реконструкцией личности, и такая задача противоположна задаче моделирования мозга. Считается, что решение задач такого уровня требует огромных вычислительных мощностей и технологии развитого искусственного интеллекта, не являющихся доступными в настоящий момент. В этой связи реконструкция личности становится гипотетической процедурой отдаленного будущего» [6, с. 1184]. Согласимся с мнением исследователей и заметим, что пока остаётся важной следующая философская дилемма: будет ли точная копия человека являться полноценной личностью, будет ли она обладать правами оригинала, как мы в будущем будем признавать и защищать права «цифровых людей». Пока на эти вопросы ответов не имеется.
Согласно позиции Ю. В. Назаровой, цифровое бессмертие представляет собой «цифровую загробную жизнь, продолжающуюся в так называемом информационном теле, которое может быть как целым, так и разбитым на разрозненные информационные фрагменты (цифровые останки). К характеристике существования после-смертного информационного тела, либо цифровых останков, как нельзя лучше подходит русское существительное «присутствие» — т. е. «digital afterlife» — это особая, ранее немыслимая форма присутствия после смерти в определенном (цифровом) пространстве» [5, с. 18].
В этой связи приведём, к примеру, фильм «Форсаж 7». После трагической кончины Пола Уокера, играющего Брайана О’Коннора в серии фильмов «Форсаж», оставшиеся сцены сыграли братья Пола Уокера, а схожести добились с помощью компьютерного моделирования. Аналогичных ситуаций в кинематографе немало: так, в трилогии «Звездные войны» не просто воскресили персонажа Кэрри Фишер — Лею Органа, но ещё и омолодили ее до состояния на 1977 год при помощи технологии «дипфейк».
-
А. С. Киселев определяет дипфейк как «реалистичную замену лиц и голоса посредством использования генеративно-состязательных нейросетей. В основе дип-фейка (название происходит от слов «deep learning», т. е. «глубокое изучение» и «fake», т. е. «подделка») — нейросеть, которая детально изучает лицо человека, а затем подставляет к исходному файлу лицо «реципиента», т. е. с максимальной реалистичностью «оживляет» изображение человека» [3, с. 56–57]. За последние несколько лет ускорилось применение дипфейков,
которые из сферы кинематографа начали «перебираться» в СМИ. В некоторых странах, в том числе и в России, внедрялись виртуальные ведущие выпусков новостей, созданные с помощью дипфейков, которые были в целом не приняты зрителями из-за «искусственности» их образа и в тоже время высокой схожестью с образом реального человеком. По оценкам специалистов, «согласно последним тенденциям, приоритетную роль в коммуникации начинает играть искренность, а не образ, на создание которого и «работают» призрачные технологии» [2, с. 112–113].
Очевидно, что коммерциализация подобных технологий является одним из важнейших фактов, дающих возможности для качественного развития дипфейков. Богатые бизнесмены, крупные компании, голливудские киностудии могут позволить себе вкладывать огромные финансовые ресурсы в развитие сложных и высококачественных дипфейков, что в конченом итоге для них сулит большую экономическую выгоду, а также позволяет значительно улучшить уровень существующих технологий, которые с каждым новым заказом будут становиться всё совершенней. Обычные дипфейки, доступные для подавляющего большинства людей, содержат ограниченный функциональный инструментарий, включая возможности распознавания лиц, синтез речи, существуя для выполнения узконаправленных операций.
Перейдём к рассмотрению основных проблем, в том числе, правовых.
В целом в нашей стране на государственном уровне создаются условия для обеспечения информационной безопасности. Данная политика нашла отражение в поправках Конституции РФ в 2020 году. Речь идет о п. «м» ст. 71 Конституции РФ, закрепляющем в ведении Российской Федерации «обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных» [1]. Регулирование цифрового образа личности вызывает ряд правовых проблем, связанных с защитой личных данных, приватностью и контролем над информацией.
Одна из основных проблем — проблема статуса образов, созданных с помощью дипфейков, в праве. Вполне очевидно, что чат-боты, созданные на основе данных об умерших людях, сильно ограничены. Как правило, они содержат только ту информацию, которую человек сам позволил знать о себе. В этом случае информация, скрытая от большинства, включающая подробности личной жизни, особенности взаимодействия с членами семьи и друзьями, не может быть реципиентирована, хотя является неотъемлемой частью личности человека. Полагаем, что статус подобного дипфейка не может в принципе быть приравнен к человеку. Прежде всего, с точки зрения этики и морали, и, следственно, с точки зрения права.
Цифровая личность может легко стать объектом неправомерных действий. К сожалению, юридическая наука достаточно инертна, она не в состоянии реагировать на изменяющиеся реалии. Дистанция, отделяющая те отношения, которые регулируются действующими нормами права, от новых отношений и событий, которые уже стоит регулировать, увеличивается с каждым днем [8]. Правовые нормы о защите личных данных должны гарантировать, что эти данные не будут использоваться без согласия владельца, и что они будут храниться и обрабатываться в соответствии с установленными правилами и стандартами.
Следующая проблема состоит в возможностях нарушения режима приватности. Правовые нормы сегодня должны обеспечивать контроль над информацией, позволяя людям решать, какие данные о них могут быть собраны, использованы и раскрыты третьим лицам, в том числе включая возможность создания и использования дифпейков. Н. Р. Красовская и А. А. Гуляев отмечают: «Возможность свободно размещать личную информацию и фотографии породила и проблему массового создания фейковых аккаунтов. Потенциальный вред от дипфейка и выгода для злоумышленников несопоставимы с весьма скромными затратами на производство. Дипфейки крайне трудно выявить, а затем ограничить их распространение по Сети» [4, с. 97–98].
Еще одно серьезное препятствие для разрешения правовых коллизий цифрового бессмертия — отсутствие в законодательстве четкого определения, кто именно является владельцем аккаунта в социальной сети — пользователь или сама платформа. С одной стороны, юридическую ответственность за действия на своей странице несем мы сами, хотя санкции могут коснуться и самой площадки: так, в России за отказ блокировать противоправный контент в соцсети грозит штраф [7].
Из предыдущей проблемы следует другая: граждане должны обладать «правом на забвение», которое предполагает, что они имеют право требовать удаления своих личных данных из цифровых систем и сервисов. Право на забвение должно быть законодательно регламентировано в Гражданском кодексе РФ, чтобы люди могли контролировать свое онлайн-присутствие и не позволять информации, которая неактуальна или нежелательна, становиться предметом дипфейка в будущем.
Необходимо решить проблему предела использования данных о цифровом образе личности. Дипфейк может быть использован для различных коммерческих целей, включая рекламу, маркетинг, аналитику и др. Правовые нормы должны устанавливать границы использования персональных данных и требовать согласия владельца (к примеру, лицензионного соглашения) для определенных видов деятельности.
Заключение
Эти правовые проблемы требуют разработки и применения соответствующих существующих и принятие новых законодательных актов, которые обеспечат защиту личных данных, приватности и контроля над информацией в цифровом пространстве. Помимо этого, требуется выработка новых этических норм, связанных с восприятием и отношением к цифровому образу личности в обществе. Если эти вопросы не решить сейчас, то будущее поколение может вырасти в условиях неразрешённых кризисов, которые только усугубят положение дел. Констатируем, что сегодня отсутствует адресное регулирование описанных нами технологий, даже в отношении аккаунтов в социальных сетях не разработано чётких правил, юридическая практика по защите размещенной на них информации также сильно отличается. И это при том, что посты в социальных сетях могут привести к уголовному преследованию, повышать и понижать уровень спроса и предложения на рынке, быть объектов рекламы, фактически влиять на нашу реальную жизнь.