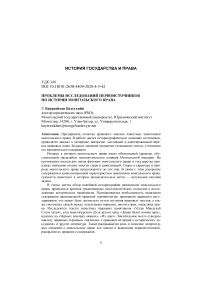Проблемы исследований первоисточников по истории монгольского права
Автор: Баярсайхан Батсухийн
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: История государства и права
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка правового анализа известных памятников монгольского права. В работе дается историографическое описание источников, приводятся данные о датировке, авторстве, дословный и адаптированный перевод правовых норм. Большое значение придается толкованию текста, уточнению его юридического содержания. Интерес к истории монгольского права имеет объективный характер, обусловленный масштабом геополитического влияния Монгольской империи. На протяжении нескольких веков феномен монгольского права и государства привлекал внимание ученых многих стран и цивилизаций. Споры о характере и природе монгольского права продолжаются до сих пор. В связи с этим раскрытие содержания и цивилизационной характеристики памятников монгольского права, сущности известных в истории законодательных актов — актуальная научная задача. В статье дается обзор новейшей историографии памятников монгольского права, приводится критика традиционных методологических подходов к исследованию исторических памятников. Подчеркивается необходимость выявления содержания национальной правовой терминологии, принципов правового регулирования, что может быть достигнуто путем изучения правовых текстов, а также системных связей между отдельными нормами, институтами, отраслями права. Исследуются тексты известных правовых памятников «Устав Мандухай Сэцэн хатун», указ маньчжурского Дээд эрдэмт хана, «Арван буянт номын цааз», надпись на «Черных поющих камнях», «Их цааз». Значительное место отведено анализу правовых терминов, связанных с правовой историей в исторических документах и другой литературе. Также раскрываются роль и значение литературных сведений о монгольском праве для поиска и выявления первоисточников, раскрытия их правового содержания.
История монгольского права, памятники права, правовые тексты, национальные правовые термины, толкование права, содержание источников права, закон, обычное право, уложения, степные законы
Короткий адрес: https://sciup.org/148317178
IDR: 148317178 | УДК: 340 | DOI: 10.18101/2658-4409-2020-4-5-42
Текст научной статьи Проблемы исследований первоисточников по истории монгольского права
Баярсайхан Батсух . Проблемы исследований первоисточников по истории монгольского права // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2020. Вып. 4. С. 5–42.
Современная Конституция Монголии провозглашает задачу — заботиться о национальном государстве, истории и культурных традициях, что определило юридические гарантии и поддержку научным исследованиям закономерностей исторического развития в целях обеспечения преемственности исторического и культурного наследия.
В рамках национальных исследований «памятники правовой истории», которые отражают тысячелетнюю правовую культуру и правосознание монголов и до сих пор являются основой духовных ценностей, идентифицирующих монголов, мало изучались правоведами.
Известные в настоящее время исследования источников правовой истории Монголии характеризуются тем, что, во-первых, все они посвящены писаным правовым памятникам, во-вторых, о самих правовых документах известно только название и чему посвящены, в-третьих, подлинные имя и содержание не известны, но широко «цитируются» в историкоправовых исследованиях.
Монгольская традиция писаного права уходит глубоко своими корнями в историю формирования монгольской государственности. Традиционно монгольские исследователи обращаются к свидетельствам китайских хроник и другим документам, изучение которых объясняет происхождение и эволюционные особенности монгольского писаного права.
В III веке до нашей эры государство хунну имело собственную пись-менность1 [14]. Шаньюй Модун заключал с соседями письменные догово- ры, традиции законодательного регулирования были унаследованы ранними государствами, что выявлено исследователями истории монгольского права. Если конкретно, то древний китайский историк Вань-Гув своем трактате «Письмена ханского государства» написал: «…по их законам обнаживший меч на длину локтя погибнет. С допустившего кражу будет взыскано всё. За малую провинность учинивший получит соответсвующее наказание. Учинивший большую провинность будет убит. В тюрьме должны быть 10 дней. Среди народа их только малость» [2, с. 34]. Далее говорится: «От великого Шаньюхана хуннов пришло письмо. Единство установлено. Беглецам негде спрятаться. Те, кто не подчиняться уставу, будут казнены. Сватовство признано. Больше не будет страданий. Будет мир и покой. Пусть все знают, что это было провозглашено» [2, с. 61]. В таких словах подтверждается, что хунну писали, законодательствовали, что отмечено в исторических записях по истории монголов. «Лю Цзинь из династии Хань послал посланника к хунну, чтобы подписать мирный договор. Это соглашение в китайских источниках называется «хэцинь», и оно влияло на отношения между хун-нами и Ханью более шестидесяти лет, с 200 г. до н. э. до 133 г. до н. э.» [16, с. 90]. Неоднократно отмечалось в памятниках монгольского права XVII в. и китайских исторических хрониках об идентичных традициях законодательной деятельности самых ранних ханов этнических монголов. Вызывает глубокое сожаление тот факт, что правовые памятники хуннов, отмеченные в китайских хрониках, связанные с историй монгольского права, не найдены.
Памятники монгольской правовой истории, такие как Халхын уйсэн дээр бичсэн 18 цааз (18 степных законов), 1640 оны Их цааз (Уложение 1640 года) и Халх журамын эмхтгэл (Сборник законов Халха Джурам), хотя и не являются подлинниками, но обнаруженные их рукописные либо ксилографические копии изучаются начиная с XVIII в. до настоящего времени, и эти факты свидетельствуют об их непреходящей научной ценности как важных объектов исследований истории монгольского права.
Кроме вышеупомянутых источников, которые найдены в рукописных копиях, в работах по истории Монголии упоминаются некоторые нормы или статьи, регулировавшие общественные отношения из неизвестных в хунну, как Фэн Цзя Шэн, Ма-чан-Шоу, отмечали, что хунну знали письменность. Хунны в Средней Азии использовали одну из письменностей — арамейское письмо, согдианское письмо, орхон енисейское письмо, как считают Б. Блоше, Б. Г. Гафуров, С. В. Киселев, А. Лувсандэндэв, Г. Сухбаатар, Л. Г. Гумилев и другие, ученые приводят этому доказательства. Исследователи культуры хунну солидарны в том, что каждое государство использовало свою систему письма».
настоящее время правовых памятников. Кроме этого, существует множество информации о монгольских правовых источниках, зафиксированных исследователями в виде путевых заметок, в которых раскрываются аспекты правовой культуры и правосознания монгольских кочевников в исторические времена. Примерами таких правовых источников могут служить данные о Великой Ясе, Межплеменном мирном договоре, Уставе Мандухай хатун, Уставе Тумэн Засагт хана, Арван буянт номын цааз, бурятские и калмыцкие так называемые «Степные уложения». Хотя Великая Яса изучалась различными научными дисциплинами и при помощи различных методологических приемов, опираясь на все известные произведения, включая Монголын Нууц товчоо (Сокровенное сказание), но исследователи все еще ищут ответы на многие спорные вопросы.
Встречается немало случаев того, что названия некоторых исторических правовых документов были даны историками, которыми пользуются многие поколения ученых до настоящего времени.
В целом количество работ, посвященных правовым памятникам, относительно невелико, невысок и уровень исследований истории монгольского права.
-
I. Обзор новейшей историографии памятников правовой истории Монголии
«История Монгольской Народной Республики» была опубликована в тысячах экземпляров на русском и монгольском языках в 1954 г. и соответствовала в полной мере социалистической идеологии. Претендуя на фундаментальность, работа советских историков, охватывая историю Монголии начиная с каменного века до Новейшего времени, отражает в общих чертах историческую хронологию, которая фактически определила до 1990-х г. идеологические рамки монгольских исторических работ, посвященных истории Отечества.
В действительности публикация «Истории Монгольской Народной Республики» 1954 г. способствовала привитию монголам сильного чувства отрицания ценности национального исторического развития, породила отсутствие интереса к истории, небрежность в оперировании фактами, склонность переоценивать значение истории других могущественных народов [17, с. 35].
Ю. Цэдэнбал, подводя итоги XII съезда Народно-революционной партии Монголии, сказал об «Истории Народной Республики Монголии»: «...публикация этой работы — необходимый и важный шаг в развитии истории нашей страны, и это, несомненно, главное событие в идеологической жизни нашего народа...»1.
Является большим пробелом в написании истории Монголии тот факт, что рамки исследований истории монгольского права были сильно ссужены, что выразилось в том, что хронологически большой период развития монгольского права с момента вхождения Монголии в Дайчин гур-эн2 и далее, включая начало ХХ в., ознаменованного отделением Внешней Монголии от Маньчжурии и объявлением суверенитета, был исключен. Кроме этого, значительно ограничены географические рамки исследований. Так, монгольские этнические группы в составе соседних с Монголией государств в Китае и России в этот период использовали свои уникальные правовые нормы, чему не препятствовала политика этих государств. Эти народы на долгое время сохранили свою традиционную правовую культуру, правосознание и в настоящее время продолжают их изучать. В связи с этим для постижения монгольской правовой культуры имеют важное значение сравнительно-правовые исследования правовой культуры бурят, калмыков, а также таких монгольских народов, как хар-чин, хорчин, өөлд, изучение их правовых памятников. Такой методологический подход позволит понять монгольскую правовую культуру во всей ее полноте, раскрыть особенности национального правосознания, понять и дополнить содержание источников правовой истории Монголии, а также определить степень их культурного влияния.
Недостаточно рассматривать правовую историю и культурные ценности монголов в контексте малого количества известных правовых источников для понимания ее наиболее ценных культурных достижений. Вместе с тем следует осознавать, что «история или процессы, нуждающиеся в поиске и обнаружении», по сути, неисчерпаемы, «… по правде говоря, все зависит от того, с какой высоты смотреть на эти процессы» [28, с. 173]. С другой стороны, история правового развития стран и племён, граничащих с Монголией, которая могла быть связанной с историей Монголии, никогда не затрагивалась в историографии. Если это понимать, то в обмене мнений имеется возможность уточнить взаимосвязи правовой культуры и правосознания. «Мы и сегодня говорим “источник” — культура. При этом подразумеваем автохтонную культуру, с древними самобытными традициями. Осознаем, что сегодня в нашем мире такой культуры, на которую не повлияли посторонние, не осталось» [28, с. 175].
При изучении монгольских источников правовой истории с лингвистической и юридической точек зрения того, как использовать такие термины, как хууль, хууль цааз, цааз, зарлиг, зан заншил, заншлын эрх зүй, хэв хууль, хэв ёс, уламжлал, цээр, цээрийн ёс (закон, юриспруденция, устав, указ, обычай, обычное право, закономерность, традиция, ритуал, табу, смертная казнь, запрет), должно быть решено окончательно. Также при использовании этих терминов в работах, изданных в нашей стране с 1990-х гг., похоже, не учитывались теоретическая и методологическая основы для строгого понимания, которые уже были наработаны в мире. Например, law — хууль, цааз, эрх зүй, legal — эрх зүй, хууль, constitut — үндсэн хууль, эх хууль, эцэг хууль, эх цааз и так далее.
В исследованиях первоисточников по истории монгольского права правовые памятники, которые регулировали отношения этнических монголов, обычно именуют как памятники права, или памятники обычного права, при этом не исключается существование различных государств. Однако можно предположить, что по своей структуре и содержанию известные сегодня исторические правовые памятники взаимосвязаны, а культура, их питающая, имеет единое происхождение (генезис).
История монголов, как и история многих других великих народов, имеет одинаковую судьбу в том смысле, что были времена могущества и величия, были времена падения, междоусобицы, но она является неотъемлемой частью истории человечества. Нет сомнений в том, что, не зная истории монгольского права, нельзя не только иметь полное представление о правовом развитии, но и понять эволюцию сущности права.
Естественно, что в монгольских исторических исследованиях правовое положение Монголии во времена маньчжурского правления между 1691–1911 гг. опиралось на источники «Халх журам», «Монгол цаазын бичиг», «Заригаар тогтоосон гадаад монголын төрийг засах явдлын яамны хууль зүйлийн бичиг». Однако немногие ученые обращались непосредственно к правовым вопросам при исследовании периода от 1630-х до 1691 г., то есть к монгольскому праву во времена величия и могущества маньчжурской династии. Также важно обратить внимание на «указы», изданные маньчжурскими правителями в отношении Монголии, при изучении монгольской правовой истории. Маньчжурское господство над монголами было плодом и результатом их государственной политики многие десятилетия.
Начиная с 1630 г. маньчжуры начали устанавливать законы, обращенные к монголам. Акты правотворчества маньчжуров были проявлением их государственной политики, но, по сути, отражали монгольские законодательную технику и правотворческую традицию. Например, в 4 и 5 годы правления маньчжурского Тэнгэрийн Сэцэн хана (1630 г.) изданы постановления, а также в 6 год правления Энх Амгалан хана (1668 г.) 150 статей, адресованных монголам «Хуучин засгийн бичигт нэмж тогтоосон засгийн бичиг», которые были первыми кодифицированными законодательными актами. Во вступительной части этого нормативного акта говорится, что по воле Великого прощающего мирного Богдо хана для многих внешних монгольских аймаков издана «Великая Яса». В последующем, в шестой год правления Амгалан хана, в старый правительственный указ были внесены добавления и поправки, в связи с чем правителям аймачных хошунов — ванам, ноенам, хошунным тайджам, гунам, тайджам — направили новый исправленный текст со словами: «Правителям внешних монголов в чине ванов, ноенам, прошедшим великий государственный совет, судьям, министру права направляем Закон для руководства, заверив большой государственной печатью» [26, с. 380–381].
-
II. Устав Мандухай Сэцэн хатун
В историй Монголии «Мандухай, чтобы устранить борьбу между ханами, в первую очередь решает важным присоединение Четырёх ойратов и побеждает ойратов в местности Тас бурд (Тэсбүрд), и приводит их под власть Даян Хана.... Мандухай Хатун покорила ойратов и выдала строгий устав, которому они должны были следовать». Об этом же сказано в «Великой желтой книге древних монгольских ханов» (Эртний монгол хаадын үндэсний их Шар тууж) такими словами: «Мудрая Мандухай хатун после смерти Даян-хана «убрала свои косы» и возглавила войско, напала и покорила ойратов четырех племен в битве в Тэсбурд и издала устав. Не называй больше своё жилище дворцом, а называй домом. Не украшайте свои головные уборы оконечностью выше двух пальцев. Не садитесь, скрестив ноги, садитесь на колени. Не ешьте мясо ножом. Называй кумыс «цэгэ». Таковы были правила, изложенные в указе. По их просьбе разрешили есть мясо ножом. А в остальном повеление требовало от ойратов следовать этому уставу» [13, с. 38]. Далее законодательный акт именовали «Мандухайнцааз» (Уложение Мандухай хатун).
В дошедших до наших времен сведениях о «Мандухайн цааз» содержатся следующие пять запретов:
-
(1) Не называй больше своё жилище дворцом, а называй домом;
-
(2) Не поднимайте оконечность своих головных уборов выше длины двух пальцев;
-
(3) Не садитесь, скрестив ноги, садитесь на колени;
-
(4) Не ешьте мясо с ножа, ешьте ртом;
-
(5) Называй кумыс «цэгэ».
Из них «ойраты попросили разрешения есть мясо ножом, это им было разрешено(4)», этот запрет устава был отменён.
Возможно, Мандухай хатун ознаменовала свою победу над ойратами изданием такого устава, однако этот факт нигде, кроме «Шара тууж», не упоминается в иных исторических произведениях.
Вместе с тем некоторые обстоятельства, упомянутые в «Шара тууж» (1), (2), (3), (5), могут быть объяснены на основе этнографических исследований.
(1) Запрет не называть своё жилище дворцом, а называть «гэр», требует уяснения того, во-первых, называли ли ойраты монгольскую юрту «орд», во-вторых, называлась ли монгольская юрта после устава Манду-хай «ургу». В монгольских словарях1 и «орд», и «ургу» отражают уважительный характер именования жилища монгольских ханов, князей, элита называла свои жилища «орд ургу». Этнограф Т. Намжил о «монгольской юрте», используемой ойратами, пишет, что ойраты обычно называют своё жилище, в котором они живут и спят, — «гэр». «Бариа гэр» называют жилище, потому что он имеет деревянную структуру, такую как «хараач» /тооно/, унь, тэрэм, «хана», «хасавч» /хатавч/. Также «бариа гэр» назывались «эсгий гэр», «тэрэмтэй гэр», «монгол гэр» [22, с. 142].
Требование устава «Не шейте оконечность головных уборов выше длины двух пальцев» (2), возможно, означало, что длина оконечности шапки (малахая) была уменьшена примерно до 2-3 см, но исследований факта о том, как с тех времён оконечности головных уборов ойратов были укорочены до таких размеров, нет. В толковом словаре монгольского языка говорится: «На макушке шапки пришивается ёнхор (украшение, пришиваемое на остроконечный верх шапки), изготавливать залаа (украшение шапки), имеющее различный вид для каждой шапки (изготавливается из волос, нитей красного цвета, …характер подходит своему облада- телю, как залаа подходит шапке [пословица]»1. А также нельзя установить, были ли реализованы в общественной практике такие запреты, как «Не садитесь, скрестив ноги, садитесь на колени» (3); Не ешьте мясо ножом, ешьте ртом (4); Называй кумыс «цэгэ» (5).
Если сравнить устав Мандухай хатун, в котором не упоминается о том, что будет, если будет нарушен запрет, как было принято в древних правовых актах. Так, полная структура правовой нормы содержит указания на условия, само правило, и определена мера ответственности тех, кто нарушает установленное правило. Такая общепринятая структура нормы отсутствует, как мы видим, в запретах Мандухай хатун, и в силу этого она не может считаться правовым актом. Следует также уточнить причины переименования правового акта, а также то, что «не сидеть, скрестив ноги» (3), можно ли считать правовым ограничением на уже установившееся поведение ойратов.
-
III. Арван буянт номын цааз
Арван буянт номын цааз (Уложение о десяти благодеяниях) — один из общеизвестных памятников монгольского права, подлинник которого не дошел до наших дней, имел целью распространение в Монголии буддизма, искоренение шаманизма. Памятник также имеет название «Уложение Хутагтай Сэцэн Хунтайджи».
Исследователи при изучении содержания уложения опираются на сведения из таких известных источников по истории Монголии, как «Эрдэнийн товч», «Биография III Далай ламы Содномжамца, составленная в 1646 г. V Далай ламой Агван Жамцом (1617–1682)». В настоящее время понимание памятника права опирается на выводы академика Ш. Бира на основе исследований, обобщенных им в работе «Об одном законе Хутагтай Сэцэн Хунтайджи» [5, с. 97-106]. Отметим, что других исследований данного правового памятника, кроме работы Ш. Биры, пока нет.
Анализ текстов «Эрдэнийн товч» и «Биография III Далай ламы Сод-номжамца» [4, с. 99] позволяет утверждать, что Арван буянт номын цааз (Уложение о десяти благодеяниях) было официально действовавшим законодательным актом. Вместе с тем весьма сложно достаточно достоверно определить датировку памятника.
Так, если взять за основу исторические факты, датированные XVI в., такие как приглашение Алтан-ханом в целях распространения буддизма в Монголию тибетского ламы Содномжамца (1542–1588), а также признать источником уложения произведения тибетского третьего Чакраварди [30, с. 8, 9] монгольского хана Хубилая, то можно предположить 1578 год временем установления «Арван буянт номын цааз» [5, с. 97].
Исследователи этого правового памятника выделяют в его содержании следующие положения.
-
1. В этом уложении устанавливался строгий запрет на древний обычай монголов лишать жизнь людей, животных для коллективного захоронения. Наряду с запретом закон имел целью искоренить путем сожжения родовые онгоны (идолы), которым приносили кровавую жертву, убивая животных. Указ предписывал вместо шаманских онгонов поклоняться образу мудрого шестирукого божества хранителя-сахюусана Махакалы, преподнося ему лишь белую пищу (молоко, масло, урум1). Уложение строго запрещало шаманизм в интересах распространения буддизма [5, с. 130–131]. Согласно сведениям Эрдэнийн товч древние монголы при погребении человека приносили в жертву домашних животных. С изданием «Арван буянт номын цааз» установлен запрет на древние варварские обряды, шаманское верование, связанное с кровавыми жертвоприношениями, то есть вместо шаманских онгонов распространить драгоценный образ Шестирукого хранителя Махакалы, научить обрядам священных подношений (молоком, кумысом, маслом) с целью распространения среди монголов буддийской веры. Впредь следовало воздерживаться от шаманского обряда захоронения с приношением жертв и соблюдать буддийское учение [5, с. 130–131].
-
2. Доктор Т. Алтангэрэл в своей работе отмечает относительно содержания уложения следующее: «1. Предписывалось запретить шаманский обряд погребения, имущество, предусмотренное для коллективного захоронения, следовало передавать в благотворительных целях ламам, хувра-кам; 2. Уничтожение шаманских онгонов путем сожжения, вместо поклонения идолам следовало поклоняться образу бога Махакалы. 3. Прекратить ежемесячные восьмого, пятнадцатого числа по лунному календарю кровавые подношения животными, предписывалось соблюдать пост. 4. Определено соответствие духовных званий с чинами светских должностных лиц. 5. Определено наказание в случае нарушения неприкосновенности лам, хувраков. 6. Предписывалось пресекать отступление хувраками четырех обетов, оберегающих от дурных мыслей; 7. Запрещены взаимные нападения по незначительным поводам китайцам, тибетцам и монголам» [2, с. 8–9].
-
3. Академик Ж. Болдбаатар в работе отмечает такие правила: «За погребение совместно с умершим верблюдов, лошадей подвергнуть наказанию, требовать воздерживаться от ежегодного, ежемесячного убийства животных, соблюдать пост. Уравнять в правах цоржи, хунтайджи, раб-жамбу, гавжи с правами тайджи, права гэлэнги с правами тавны хонжин, права тойн, шимнац (чавган), убаши, убасанз с правами малых тайджей, установить равную защиту духовных и светских должностных лиц в случае нанесения простым человеком оскорблений словом и действием; если ламы, нарушая обет безбрачия, женятся — подвергнуть изгнанию, если убаши, убасанз убьют животное, лишить духовного сана, если тойд, уба-ши употребят спиртное — конфисковать все имущество» [9, с. 149–150].
Рассмотрим и сравним взаимосвязанные фрагменты в содержании «Арван буянт номын цааз» и «Арван буянт номын цагаагн туух».
Первое. Совместное толкование норм «Арван буянт номын цааз» и комментариев в Эрдэнийн товч (снабдив комментарием в конце каждого положения, связанные с комментарием слова, понятия пронумерованы латинскими буквами) позволяет понять следующее:
-
(1) Ранее при смерти человека в Монголии приносили в жертву верблюда, лошадь для совместного погребения (хойлго). Впредь следует воздерживаться от этого, следуя в направлении Учения.
-
(2) В течение года и нескольких месяцев соблюдайте пост (бацаг).
-
(3) В случае нарушения неприкосновенности четырех категорий духовенства устанавливается равная ответственность, как в случае нарушения неприкосновенности светских феодалов: цорж, хунтайджи, равжамба, гавжи, гэлэнги, хожин, тайши, зайсанги.
-
(4) В период трехдневного поста не убивать животное, воздерживаться от охоты на диких животных.
-
(5) Если монахи, нарушая священный обет, женятся, то, намазав им лицо сажей, заставив обойти храм трижды против солнца, изгнать прочь.
-
(6) Если уваши, убсанз, нарушая нормы церкви, лишают жизни живые существа, предварительно наказав, отправить на службу.
-
(7) Если тойд, уваш употребят спиртное, следует их изгнать.
Таблица 1
|
Арван буянт номын цааз |
Арван буянт но-мын цагаан түүх |
Комментарии |
|
|
(1) |
Ранее при смерти человека в Монголии приносили в жертву верблюда, лошадь для совместного погребения. Впредь следует воздерживаться от этого, следуя в направлении Учения |
||
|
(2) |
В течение года и нескольких месяцев соблюдайте пост |
||
|
(3) |
В случае нарушения неприкосновенности четырех категорий духовенства устанавливается равная ответственность, как в случае нарушения неприкосновенности светских феодалов: цорж, хунтай-джи, равжамба, гавжи, гэлэнги, хожин, тайши, зайсанги |
Пятьсот духовных лиц четырех категорий |
|
|
(4) |
В период трехдневного поста не убивать животное, воздерживаться от охоты на диких животных |
Первые летние месяцы/+ в первый день лунного месяца по случаю рождения бога/ в период от первого дня новолуния до восьмого числа/+ нового/ если соблюдать пост/ + во имя многих людей/ очень хорошо. Совершенные в этот день благодеяния увеличи- |
|
ваются во много раз |
|||
|
(5) |
Если монахи, нарушая священный обет, женятся, то, намазав им лицо сажей, заставив обойти храм трижды против солнца, изгнать прочь. |
В случае нарушения установленных порядков: учинения кровавых разборок (6), сожительства с чужой женой (5), а также разрушая порядок в храме, предавая учителя путем употребления спиртных напитков (7), лживых слов, разрушая основы двух государств, следует виновных лишить привилегий духовных лиц с последующим причислением в разряд обычных людей. Руки очень крепко связать, лицо обмазать чернилами (5), на голову воткнуть черный флаг, таскать за волосы, бить по бедрам золотым посохом, заставив трижды обойти храм против солнца, отправить в ссылку |
|
|
6 |
Если увши, убсанз, нарушая нормы церкви, лишают жизни, предварительно наказав, отправить на службу |
||
|
7 |
Если тойд, увш употребят спиртное, следует их изгнать |
Вино (спиртное) пить - пить вино |
Согласно сведениям Эрднийн товч, при составлении «Арван буянт номын цааз» за основу была взята «Белая история о десяти благодеяниях»
(«Арван буянт номын цагаан түүх»1) Пагва ламы2, в соответствии с правилами, установленными Хаганом учения Пагва ламой, четыре категории духовенства были сразу освобождены от повинностей, так установлены две власти [31, с. 94].
О запретах шаманизма и поощрении распространения буддизма в Монголии свидетельствуют следующие нормы «Арван буянт номын цааз»:
-
- ранее в Монголии после смерти человека приносили в жертву верблюда, лошадь для совместного захоронения. Впредь необходимо воздерживаться от этого, следуя по направлению учения (1). Такое предписание закреплено в этом законе.
В то же время в уложении предусматривалась такая юридическая ответственность — в виде наказания «намазать (очернить) лицо сажей», «трижды обойти храм против солнца», «предварительно наказать»; устанавливались запреты «не лишать жизни живые существа», «не употреблять спиртное (вино)», «не нарушать учение», «соблюдать пост», «воздерживаться от этого, следуя по направлению учения», что свидетельствовало о политике распространения буддизма.
В уложении определялось одинаковое наказание в случае посягательства простолюдином на четыре категории духовенства (дурвэн зүйл ху-врагууд): цоржи, хунтайджи, равжамба, гавжи, тайджи, гэлэн, хонжин, тайши, зайсан. При этом конкретные виды наказания не определялись.
Хотя в Эрдэни товч не упоминаются виды наказания со ссылкой на первоисточник Уложения, вероятно, в первоисточнике «Арван буянт номын цааз» нормы о наказании виновных лиц за посягательство на духовенство были определены, о чем свидетельствуют формулировки: «лугаа адил тайджи, зайсанги» (одинаковое наказание для тайджи, зайсанги и т. д.).
Академик Ш. Бира писал, что Далай лама Содномжамц пожаловал Алтан-хану титул «Хан учения». Таким образом, глава тибетского буддизма Содномжамц и Алтан-хан восстановили традиционные взаимоотношения религии (церкви) и государства. Далее Ш. Бира отмечал, что во время этой встречи Хутагтай Сэцэн Хунтайджием был подготовлен «Ар-ван буянт номын цааз». Фрагменты «Арван буянт номын цааз» на монгольском языке были использованы при создании «Эрдэнийн товч» Саган Сэцэном, а позже на тибетском при написании биографии Далай ламы III Содномжамца, Далай ламой V Агванжамц. По этой причине в отношении закона, изданного Хутагтай сэцэном, все стало понятным, пишет Ш. Бира [5]. Тем самым в сочинении III Далай ламы слова на тибетском языке, связанные с законом, переведены и объяснены так: «В древности имеющие небесное происхождение и преисполненные их мощью, силами Китая, Тибета и Монголии, взяли под свою власть всех последователей буддийского учения, веру свою распространили и утвердили на многие годы вперед. Позже, начиная со времен Тѳмѳрхана, произошло ослабление религиозного учения, выразившееся в распространении греховных деяний, подобно «черному кровавому океану». Владыки алтаря и благодеяния подобно солнцу и луне, открыв путь высшему учению, превратили кровавый океан в молочный океан. Велико значение данного преобразования: отныне Китай, Тибет и Монголия должны жить в соответствии с нормами «Арван буянт номын цааз». С этого времени, в частности, в Монголии и Чахар, будет установлен закон и порядок. Если ранее в Монголии после смерти человека приносили в жертву вдову, слуг, лошадей и других домашних животных для общего погребения, то отныне следует оставшееся имущество (скот) передавать ламам в качестве подношения, заказывать молебен за упокой души. Запрещается убивать животных после смерти человека. За убийство человека в целях жертвоприношения следует смертная казнь. За жертвоприношение скотом — конфискация имущества виновных. За посягательство (телесное повреждение) на духовенство ламаистское — членовредительство в виде отрубания рук. Запретить, как ранее приносили ежемесячно три раза: в первый день новолуния, 15 день, 8 день в жертву шаманским онгонам животных путем сожжения. С этого времени впредь не убивайте живые существа для сожжения в качестве жертвы никогда. В противном случае нака- зать штрафом в 10-кратном размере пропорционально количеству голов скота, принесенных в жертву» [4, с. 97-98], читаем мы в переводе на монгольский в «Эрдэнийн товч», связанном с первоисточником.
Второе. Фрагменты «Арван буянт номын цааз», встречающиеся в биографии Далай ламы:
-
(1) В Монголии после смерти человека приносили в жертву оставшуюся жену, зависимых людей, рабов, лошадей и другие виды домашних животных для совместного захоронения. Впредь животных, подлежавших ранее жертвоприношению, следует передавать хувракам, ламам. Следует заказывать молебен по усопшему.
-
(2) Не убивай живое существо для жертвоприношения после смерти человека. В противном случае за убийство равного наказать смертной казнью.
-
(3) Если убили коня, наказать лишением всего имущества.
-
(4) За нарушение неприкосновенности лам, хувраков следует отрубить руки виновному.
-
(5) Если раньше после смерти человека приносили в жертву лошадь и другие виды домашних животных онгонам в канун нового месяца, 15 и 8 числа по лунному календарю, то с этого времени прекратить подобное лишение жизни животных. Иначе последует наказание в виде конфискации имущества в 10-кратном размере количества скота, принесенного в жертву.
В «Эрдэнийн товч» Сагаан Сэцэна1 так описывается об установлении «Арван буянт номын цааз»:
«Ведающий всем Богдо, Алтан-хан, обсудив всем миром: князьями, простолюдинами, установил, что впредь следует воздерживаться от шаманских традиций, следуя по пути буддийского учения.
Необходимо соблюдать ежегодный пост в течение нескольких месяцев. Неприкосновенность разных категорий духовенства: хунтайджи, равжамбы, гавши, охраняется в равной мере с защитой светских должностных лиц: тайджи, зайсанги. В период ежемесячного поста запрещается лишать жизни живых существ, а именно домашних и диких животных.
Если духовное лицо «тойм хүмүүс», нарушив обет, женится, то его лицо следует намазать сажей, после заставить обойти монастырь трижды против солнца, после изгнать. Если духовные лица уваш убсанз, нарушая священное учение, учинят кровавые разборки, то следует, предварительно наказав, отправить на службу. Если тойд, увшнар употребят спиртное (вино), руководствуясь поучениями тибетского третьего Чакраварди хана, монгольского Хубилай хана, утвердив «Арван буянт номын цааз», возвышая Богдохана, опираясь на древние сутры Владыки буддийского учения Пагва ламы, виновных изгнать, лишив предварительно их привилегий. Так установлены две власти [30, с. 94].
Таблица 2
-
I. Сравнение фрагментов из биографии Далай ламы и «Эрдэнийн товч» об «Арван буянт номын цааз»
Биография
III Далай ламы
Арван буянт номын цааз
1.
Ранее в Монголии после смерти человека убивали, принося в жертву жену, зависимых людей, слуг, коня и других домашних животных умершего
Ранее в Монголии в случае смерти человека убивали верблюда, лошадь для коллективного погребения
2.
С этого времени лошадь, другие виды домашних животных вместо принесения в жертву для погребения следует передавать ламам, ху-вракам (духовным лицам)
Воздерживаться от этого, следуя учению
3.
В случае нанесения телесных повреждений виновное лицо наказать в виде членовредительства (отрубить руки)
За нарушение неприкосновенности четырех категорий духовенства путем телесного повреждения, оскорбления словом равная ответственность, как в случае нарушения неприкосновенности светских феодалов: цорж, хунтайджи, равжамба, гавжи, гэлэнги, хожин, тайши, зайсанги.
Анализ фрагментов «Эрдэнийн товч», биографии III Далай ламы, содержащих сведения об «Арван буянт номын цааз» позволяет заключить следующее:
-
1. Автор биографии Далай ламы был хорошо осведомлен о жизнедеятельности Хутагтай сэцэн, знал содержание «Арван буянт номын цааз».
Сравнение фрагментов «Арван буянт номын цааз», «Арван буянт номын цагаан түүх»
-
2. Некоторые сферы регулирования были значительно расширены автором биографии Далай ламы либо имели целью подчеркнуть вклад Хутагтай Сэцэн в дело укрепления государства, особенно в период распространения в Монголии буддизма, и таким образом возвысить историческое значение произведения. Из сведений «Эрдэнийн товч» следует, что важным источником при создании «Арван буянт номын цааз» явилось сочинение Учителя Хубилай хана Пагва ламы «Цагаан туух» или «Белая история». Несмотря на некоторые отличия в содержании «Эрднийн товч» и биографии Далай ламы III, они в большей части схожи. Таким образом, «Арван буянт номын цааз» — памятник монгольского права, направленный на распространение буддизма, искоренение шаманизма в Монголии, с целью укрепления государственной политики империи Юань.
-
IV. В поисках одного указа маньчжурского Дээд эрдэмт хана
Вопросы истории права Монголии во времена правления маньчжуров до сих пор остаются загадкой для ученых. В связи с этим следует отметить, что в последние годы ученые Китая приступили к цифровизации архивных данных, начали публиковать на страницах научных журналов материалы об исторических правовых памятниках. Однако поиски учеными следов одного из интересных научной общественности указов этого периода не увенчались успехом.
Речь идет об указе маньчжурского императора — Манжийн дээд эрдэмт хаан1, изданном в 1636 г., который сыграл решающую роль в исторической судьбе Монголии. Несмотря на усилия монгольских ученых, предпринятые попытки провести научный анализ текста исторического правового памятника безуспешны, поскольку подлинный текст до сих пор не найден. Речь идет об указе, о котором русский ученый М. А. Полу-мордвинов2 [25, с. 9–10] в книге «Историческая справка», изданной в
Санкт Петербурге 1911 г., пишет, что излагаемый в его книге указ Дээд эрдэмт хана он лично перевел с монгольского языка [25, с. 44]. Вместе с тем опубликованные в Китае «Законы Дээд эрдэмт хана» не содержат информацию, связанную с указом, переведенным русским ученым.
Во фрагменте работы, где утверждается о существовании указа, М. А. Полумордвинов, говоря о монголах, пишет: « …если сменится династия Воюющего царства (государства)1, монголы станут жить в соответствии с их монгольскими законами. На то есть воля Неба. Это возвышение дано небесами.... 23-го числа первого летнего месяца первого года правления Богдохана, Великого ученого Воюющего царства (государства)» [25, с. 45].
Смысл приведенного положения заключается в том, что «в 1636 г. до-гобийские овор монголы и последовавшие за маньчжурами халх монголы севера Гоби с целью сохранить независимость отделились друг от друга» [23, с. 13].
В Магад законе говорится: «Выражая волю Небес, подавив ересь военной силой, усмиряя умом примирившихся, распространив славу великой милостью по всей земле, присоединил к себе страну корейцев. Единство Монголии установлено. И была найдена Хас печать»2.
Также трактует получение большой государственной печати3 японский ученый Мияваки Джунко, который в связи с этим пишет: «Получивший в свои руки государственную печать государства Юань Хожуу Алтангийн хан Хунтайджи понял это как знак вверения ему власти, данной по воле Неба Чингисхану, в то самое время назвавшись Маньчжуром, запретил упоминать имя Зурчид. Выходец из долины реки Ляо, кореец по национальности, в следующем в 1636 г. созвав представителей племен на Великое собрание, был избран ханом трех народов, основав новую династию Их Чин, тем самым основав Маньчжурское государство» [20, с. 176].
Вероятно, еще один источник не отрицает, что маньчжурский император Эрдэмт хан издал вышеупомянутый указ. По указу «агууд оршоогч»
Богдо хана многим монгольским аймакам их засаг цааз были учреждены. В этом сведении именуемый «Агууд оршоогч» Богдо хаан о маньчжурском Дээд Эрдэмт хане говорит, что он «распространяет великое царство» [15, с. 380]. Другими словами, можно считать, что представления о периоде Энх-Амгалан хана, отраженные в этом «цаазе» и выраженные в исторических источниках, в том числе в работе Полумордвинова, свидетельствуют о том, что Дээд Эрдэмт хан понимал, что он стал монгольским ханом в соответствии с «Великой Ясой».
В 1911 г. монголы в соответствии со специальным постановлением объявили свою независимость от маньчжуров, тем самым заложили основу для воплощения полного государственного суверенитета, в 1912 г. последний маньчжурский Пу-И хан смещен с трона, тем самым прервав династию Дайчин гурун, правившую Срединным царством.
Согласно специальному указу Богдо-гэгэна монголы объявили о своей независимости от маньчжуров 29 декабря 1911 г. и образовали суверенное государство. С того самого времени до 1924 г. Монголия в ряде соглашений с участием Срединного государства и царской России на переговорах не выражала свою волю в соответствии с указом. Вместо этого царская Россия признала Монголию частью Срединного государства, и в результате трехстороннего соглашения в Кяхте 1915 г. Монголия стала субъектом Срединного государства с правом на самоуправление, и китайцы предприняли ряд политических мер для обеспечения соблюдения договора. Например, император Монголии VIII Богд Джебцундамба получил «письмо с требованием из 64 пунктов» от Цин-И, чтобы возродить монгольскую династию, отменив автономию Монголии и сделав ее частью Китая.
Однако М. А. Полумордвинов в своей книге пишет: «Таким образом, события 1636 г. можно рассматривать как попадание монголов в зависимость от маньчжурского императора и в то же время можно понимать по-другому: потомки Хубилая пытались не потерять свою власть и передали ее временно маньчжурам. Вышеупомянутый указ (хотя у нас нет такой информации, мы можем с уверенностью сказать, что такой указ был дан всем другим правителям уделов), по сути, является основным юридическим документом, связывающим Монголию с маньчжурами, который является основой для определения правового статуса этого региона в так называемом Воюющем государстве» [25, с. 46]. Легко понять, что нет никаких свидетельств того, что последствия этого указа упоминались или цитировались в монгольских исторических документах или архивных документах начиная с ХХ в.
О. Батсайхан, переведший работу Полумордвинова с русского на монгольский язык, так подчеркивает значение указа: «Как видно из этого ука- за, акт волеизъявления Верховного маньчжурского хана, в котором подтверждается процесс объединения Внешней Монголии с Маньчжурией, учитывает характер правоотношения между этими двумя субъектами и ясно указывает на условия действительности и разрыва».
Другими словами, имеются указания на условия, при которых связь между монголами и маньчжурами будет разорвана — это смена династии, когда маньчжурская империя распадется, у монголов не будет правового договора с маньчжурами, каждый будет только за себя, как это было ранее [25, с. 5].
Из работы Полумордвинова не ясно, на чем основано его утверждение о существовании указа маньчжурского императора. Если допустить, что он был издан, тогда не понятно, почему в монгольском политическом процессе с 1636 по 1911 г. это не оставило никакого заметного следа, поскольку архивные правовые документы начала ХХ в. таких сведений не содержат. С другой стороны, провозглашение суверенитета монголов в начале ХХ в., объявление права всех людей участвовать в судьбе государства, протесты со стороны маньчжуров и китайцев, правовая история их последствий описываются в исторических источниках: «...если династия воюющих государств изменится, монголы будут жить по своему первоначальному закону. Вот почему возвышение понималось как повеление небес». Вместе с тем не исключена вероятность того, что Дэээд эрдэмт хан не издавал указ с таким содержанием.
-
V. Другие вопросы, связанные с исследованиями источников правовой истории
-
V. I. Некоторые термины, связанные с правовой историей в монгольских исторических памятниках и художественной литературе
Историко-правовые понятия, такие как зарлиг, цааз, хэв, зарга, ёс, эргYYлэгч, ял, эPYY, мухарлах, часто упоминаются в соответствующих исторических источниках XIII–XVIII вв. Множество из них, включая термины самой Великой Ясы, исследовано, созданы толковые словари. Так, например, имеется множество сведений о правосознании монголов, выявленных при изучении художественных произведений. Эти источники не имеют прямого отношения к истории монгольского права, но все же они имеют связь с правосознанием. Например, было исследовано четверостишие морально-правовых принципов, записанных на так называемых «Поющих черных камнях» 1 [24, с. 21]:
«Здесь сотворенное сподвижниками великого хана И всесильного повелителя могущественными лордами, Если установленные правила поменяются
Для различения правильного и неправильного агаараа нэгэн буй» [24, с. 26] .
Все же нельзя оставить без внимания факты научного цитирования без уточнения названий памятников по истории монгольского права, раскрытия содержания правовых терминов.
Очевидно, что такие памятники, как Үйсэн дээр бичсэн 18 цааз — 18 законов, записанных на бересте; 1640 оны «Их цааз» — Великое уложение 1640 г., «Халх журамын эмхтгэл» — записи Халх джирум, содержат прямые указания на иные, неизвестные в настоящее время правовые акты. Так, имеются такие положения: «их хэвээр болох» — будет по великому хэв, «урьдын цааз» — древнее уложение, «язгуурын цааз» — уложение благородных, «эртний цааз» — раннее уложение, «урьдын заргын ёсоор шийд» — решай по правилам правителей, «заргын ёс» — государственные обыкновения; все это служит доказательством того, что имеется проблема того, что понимается как «источник права».
Хронология памятников, обнаруженных в период начиная с середины XVI в., нуждается в датировании и установлении их источника, прототипа уложения, ссылки, устных или иных преданий о времени создания, религиозных посвящений, названий, а также в выявлении причины того, почему существовали запреты называть полное имя памятника или для чего писали: «будет по прежнему уложению», «ранешнее уложение», «запреты избранных», «древние запреты» и т. п.
У исследователей нет единого мнения о том, что означают такие ссылки, поскольку это может быть истолковано, во-первых, как применение норм в рамках уложения, во-вторых, наказание, назначаемое до принятия этого уложения, в-третьих, требование о соблюдении стандартных или общепризнанных правовых норм.
В 1576 г. Тумэн хан, посоветовавшись с князьями шести племен, установил «Их цааз» — Великое уложение, в котором в письменной форме продолжил устную традицию и приказал правителям шести племен последовать его установлениям. Тумэн хан, провозгласивший Великое уложение, получил в ознаменование этого события титул «Засагт-хан» [6, с. 130]. Это уложение в своей основе не изменило традиции правового регулирования, и также как в «Арван буянт номын цааз» имел целью распространение буддизма в Монголии. Иными словами, Тумэн хан распространил верование последователей Зонхавы и открыл «Дверь Дхармы».
В том виде, в котором они нам известны, во-первых, содержат доказательства подлинности названий этих источников, во-вторых, имена относятся к конкретным правовым источникам, и, в-третьих, правовая система того времени специально нацелена на разрешение правовых конфликтов.
Комментируя упомянутые источники, академик Ш. Бира отметил: «До недавнего времени мы не могли доказать реальными примерами то, какими были эти законы. Однако «Их цааз», который мы изучаем, наряду с недавно обнаруженными законодательными актами Халхи является ярким примером того, какие юридические документы существовали в Монголии задолго до Халх Джурам» [6, с. 111].
Положения «Их цааз» 1640 г. заключаются в следующем:
-
(1) если убив, разграбят лам в храмах или людей в аймаках, то отныне сто доспехов, сто верблюдов, тысячу лошадей брать, у некоторых брать по Великому хэв.
-
(2) Когда придут мятежники, возьми из их числа половину, другую верни хозяину. Если совершат убийства, то следуй правилам Их хэв.
-
(3) Если кто кого-то убьет, то человеку хэв.
-
(4) Отец сыну сыновнюю долю, соответствующую правилам хэв, выдели.
-
(5) Пусть будет хэв каанаров их скот.
-
(6) Если нет отца и матери, будет по правилам трех хэв.
-
(7) Кто пришел от других людей, пусть выходит по правилам этой земли.
-
(8) Если убийство совершит голый (ничего не имеющий) человек, будет по старым правилам.
-
(9) По следам пришедшие и имеющие надежного свидетеля, если мохруула, то по правила хэв будет.
-
(10) Если состоятельный человека накормит, будет по правилам хэв.
-
(11) Зверь, который упал в ловушку, достанется по правилам хэв.
-
(12) Возмещение хорошего серебряного седла, узды, соболиной шубы по правилам хэв. Среднего качества серебряное седло, узда, волчья, рысья шуба по правилам хэв.
-
(13) По статусу вора будут и правила, определяющие меры дознания.
-
(14) То, что отдается от сообщества, засчитывается по числу, указанному в хэв.
«Их Цааз» во всех 15 приведенных нормах отсылает к неназванному первоисточнику, также как и в указах Хунтайджи Галдана, в то время как в постановлении Дондогдаши нет отсылок на первоисточник. Из всего этого представляется, что слово «хэв» относится, с одной стороны, к правотворческому источнику «Их Цааз», а с другой — к первоисточнику, имевшемуся в правовой истории, на которой он основан. В частности, случаи «(1, 2) их хэв — Великий первоисточник», «(6) первоисточник трех уложений», «(15) по примеру древнего уложения» — такие отсылки подтверждают существование в истории монгольского права более ранних до 1640 года правовых источников.
Российский исследователь Ф. И. Леонтович утверждает, что «основой Великого уложения 1640 г. являются два источника: госун и юсунг (древние монгольские яса или ясак) — племенное обычное право, а следующие — законы древних племен». Это древние «Правила наказания» (как определил Иакинф) во всех ойратских провинциях в XV и XVI вв., то есть до тех пор, пока новые объединенные монгольские ойратские «Правила наказания» не были переданы в наше время по древним «калмыцким указам», другими словами, до того как были учреждены «Правила наказания» вновь объединенных ойратских племен в древние времена действовали так называемые «Калмыцкие установления» [18, с. 15].
Некоторые исследователи имеют другое мнение. Например, Э. Буян-Ульзий и другие авторы слова «(8) урьд хэв (предыдущие первоисточники)» и «(6) гурван цаазын хэв (первоисточник трех уложений)» объясняют с позиции существования устных, то есть неписаных, правил. Так, «гурван цаазын хэв» — это наказать ялом (то есть штрафом) в трехкратном размере [11, с. 68]; урьд хэв — в специальном правиле «прежде дважды достигнув, пусть берет» говорится о запрещающем устном обычае, они говорят [11, с. 73]. Точно так же Э. Буян-Ульзий и другие назвали «Великий первоисточник» основой «Их цааз». Доктор Т. Алтангэрэл также считал, что «это можно понимать в том смысле, что Их Засаг (Великая Яса), которой следовали на протяжении многих веков» [1, с. 20].
Однако в «Кратком словаре монгольского языка» Я. Цэвэл слово «хэв» толкуется как 1. Ставшее традицией установленное правило, обычное право, нравственные устои, нравственность; 2. Твердое следование установленным основным принципам — это блюсти установления (следовать неукоснительно обычаям людей) [29].
В словаре объясняется, что «великое установление» понимается в смысле долгого во времени следования установленной мере поведения. Это доказывает, что нормы «Их цааз» не представляют собой волеизъявление его творцов. Тем не менее необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, кто, когда и где установили правовые нормы для регулирования общественных отношений.
В те времена при разрешении возникающих юридических дел и споров использовались термины, слова, связанные с установленными тради- циями. Так, например, в уложении Дондогдаши используют такие термины с целью регулирования правоотношений: «посмотреть в старом документе, что написано», «взять по старым обычаям», «поделить в соответствии с прежним обычаем», «разорить в соответствии со старым письменным положением», «да будет по старым установленным правилам», «узнаем, ознакомившись с собственно притязанием и традициями писаного права», «пусть будет по обычаю».
-
(1) По мере плохого и хорошего случившегося на войне воздать в соответствии со старыми писаными правилами.
-
(2) Свидетель, которого приведет хозяин скота, пусть возьмет по старому обычаю.
-
(3) Правила гонения следа. Непрерывный на снегу, непрерывный тонч боорог , непрерывный новый балчиг , при наличии этих трех признаков, если есть свидетель, вернет по обычаю, разорить. Как только у вас появится устное свидетельство, поднимите скот и пытайте по обычаям. В иных случаях с того, кому привел след, штраф поделите по старому обычаю.
-
(4) Разорить по старым записанным правилам человека, не предоставившего верховых лошадей следующим по трем государственным нуждам.
-
(5) Пусть награда за спасение скота от волков, льда и огня будет по старым писаным правилам.
-
(6) Давайте посмотрим на второй случай в старой устной традиции.
-
(7) Сок такой же, как и раньше.
В этих вышеприведенных семи случаях слова и термины использовались, во-первых, по правилам старого судебного процесса, «согласно старому иску» , «согласно старому закону», а во-вторых, «Великий цааз» Дондогдаши хана 1640 г. в качестве «старого сценария». Возможно, что источник Великого уложения, цитируя «Их цааз» 1640 г. как «письменный акт сорока и четырех тумэнов», не считается вновь использовавшим термин «старый».
-
V.I I. Информация и источники, связанные с историей монгольского права, упоминающиеся в некоторых исторических трудах
В последние годы правовые памятники по истории Монголии стали доступны на многих иностранных языках, некоторые из них были переведены на монгольский язык, что позволило пересмотреть не только историю Монголии, но и историю монгольского права, а также уточнить некоторые возникшие вопросы при изучении сведений зарубежных путешественников. Хотелось подчеркнуть, что они содержат ценную информацию, содержащую трактовку исторического прошлого. Например, мемуары монгольского государственного деятеля Ф. А. Ларсона, антрополога, автора книги «Чингисхан, основатель современного мира»; Дж. Уотер- форда, Дж. Гилмора, проповедовавших христианство в Монголии более 150 лет назад, написавших книгу «Среди монголов»; русского историка Н. Я. Бичурина, автора «Записки о Монголии» и «Мое путешествие по Монголии»; а также истории, написанные г-жой Битрикс Булстрод, которая в начале ХХ в. побывала в Монголии и опубликовала в Великобритании в 1920 г. свои мемуары. Все перечисленные книги были переведены на монгольский язык, содержат обширную информацию о монгольских законах и нормативных актах, что позволяет исследователям использовать ее при анализе вопросов реализации и эффективности исторических правовых документов. В частности, изучение трудов иностранных ученых, сведений об истории права Монголии дает возможность монгольским историкам права проводить последующие историко-правовые исследования, использовать методы сравнительного правоведения при обобщении результатов исследований. Наряду с изучением содержания письменных источников права им необходимо устанавливать, во-первых, степень их разработанности, во-вторых, их значение, время и область применения, в-третьих, были ли они описаны в исторической литературе в полной мере.
Остановимся на некоторых работах Н. Я. Бичурина и И. М. Майского, касающихся характеристики монгольской правовой системы в маньчжурский период и период правления Богдохана в Монголии.
И. М. Майский отметил в своих трудах процессы интенсивного реформирования маньчжурского права в Монголии в период правления Богдогэгэна в начале ХХ в., а также трудности искоренения в сознании правовой культуры, присущей маньчжурскому праву.
Российский китаист Н. Я. Бичурин1, в опубликованной в 1828 г. работе «Заметки о Монголии» [8] (часть 4) изложил содержание 12 разделов, всего 204 статьи так называемого «Монгольского уложения», которое является переводом на русский язык изданного маньчжурами для монголов закона «Монгол цаазын бичиг»1, состоящего из 12 тетрадей с 206 (204) статьями. Вероятно, имеются существенные различия в переводах закона как с китайского или маньчжурского языков на русский, так и с русского на монгольский язык.
Сравним «Монгольское уложение», опубликованное в работе Н. Я. Бичурина, с «Монгол цаазын бичиг»:
|
«Монгольское уложение» по Н. Я. Бичурину [8, с. 273–351] |
Монгол цаазын бичиг [21, с. 22] («Цааджин бичиг») |
|
|
1. |
Отделение I. О достоинствах |
Первая тетрадь. Статьи об официальных рангах |
|
2. |
Отделение II. О ревизии и обязанностях |
Вторая тетрадь. Статьи о домашнем хозяйстве (укладе) |
|
3. |
Отделение III. О приезде ко Двору и представлении дани |
Третья тетрадь. Статьи о паломничестве и подношении |
|
4. |
Отделение IV. О собрании на сейм и отправлении на войну |
Четвертая тетрадь. Статьи о совещании и о войсках |
|
5. |
Отделение V. О межах и караулах |
Пятая тетрадь. Статьи об охране границы |
|
6. |
Отделение VI. О грабеже и воровстве |
Шестая тетрадь. Статьи о мошенничестве |
|
7. |
и т. д. |
и др. |
«Монгол цаазын бичиг» дошел до нас на маньчжурском и монгольском языках, а в некоторых источниках отмечается, что существует вариант на китайском языке, который еще не найден. Однако, возможно, Н. Я. Бичурин перевел Уложение с китайского языка. Хотя он в своей работе не упоминает «Монгол цаазын бичиг», но он комментирует некоторые его положения. До опубликования своего труда в 1828 г. он не изучал и не знал о правовых традициях монголов и приводит в конце перевода закона свои предположения: «Примечание. Хотя по истории мало известно, какие были законы прежних монгольских династий; но, судя по неизменяе- мому образу пастушеской жизни, которую ведут монголы искони доныне (это 1828 г. — Б. Б.), безошибочно можно заключить, что и древние их Уложения в существенном сходствовали с нынешними, даже и в даннических отношениях к Китайской державе (маньчжурский период. — Б. Б.). Напротив, обычаи по мере постепенно улучшаемого у них гражданского состояния и распространения связей с окрестными народами должны во многом отличествовать от древних» [8, с. 351]. При этом он пишет: «Во время путешествия я описывал города и селения, времена года, образ жизни, три типа природы, а затем рассчитывал исследовать население, социальную систему и экономику Монголии, однако все сложилось иначе, потому что путешественник, не знающий языка государства, которое он собирается исследовать, не может не допустить ошибок в своем исследовании» [8, с. 19].
Российский дипломат и историк Иван Михайлович Майский1 в своей книге «Современная Монголия» описал правовую систему Богдо-ханской
Монголии начала ХХ в., характер монгольского права, судоустройство, судопроизводство, наказания, нормы наказаний, семейное право, наследственное право и договорное право. При этом он написал: «После отделения от Китая (что означает отделение от маньчжуров. — Б. Б.) Автономная Монголия решила обзавестись собственным нормированным правом. С этой целью её правительством была создана специальная комиссия по составлению свода законов. К 1919 г. комиссия закончила свою работу — новый свод законов состоял из 64 томов — и под строжайшим секретом приступила к изданию своего произведения (в Автономной Монголии закон считается государственной тайной, доступной только посвященным.) Во время пребывания нашей экспедиции в Урге отпечатано было лишь 8 томов, удалось ли отпечатать остальные 56, — не знаю. Если даже и удалось, в жизнь войти новое «Уложение» (то есть законодательный документ Монголии, утвержденный указом. — Б. Б.) во всяком случае не успело и теперь, с ликвидацией монгольской автономии, в ближайшие годы едва ли выйдет» [19, с. 331]. И. М. Майский, говоря о новых законах, установленных в Богдо-ханской Монголии, в разделе своей работы о наказаниях пишет: «Есть и такой вид смертной казни: осужденного зашивают в сырую кожу, зарывают по горло в землю и, чтобы продлить агонию, слегка подкармливают его чаем и молоком. Сырая кожа, ссыхаясь, причиняет сильную боль, потом начинается гниение заживо и в конце концов человек погибает. У некоторых мучение продолжается 2–3 месяца подряд. Существует ослепление путем выкалывания глаз или насыпания в них купоросу. Сюда же относится ампутация конечностей (рук и ног), производимая следующим своеобразным способом: если дело происходит летом, преступнику туго-натуго связывают вместе ладони рук, положивши между ними конского помету, завернутого в сырую тряпку; помет преет, в нем заводятся черви, тело и кости гниют, в конце концов кисти рук отваливаются. Зимой поступают несколько иначе: ноги и руки преступника просовывают сквозь стенки юрты наружу и в таком положении привязывают его; затем конечности обливают водой, замерзают, отмораживаются и в конце концов также отпадают. Подобные наказания, конечно, не предусмотрены никакими писаными законами, но они применяются совершенно открыто и с одобрения хошунного управления. Их цель — не возмездие, а просто обезвреживание опасных для населения преступников» [19, с. 336].
В своей работе И. Майский заявляет, что «кроме официально узаконенных наказаний имеется еще ряд других, применяемых к особо закоренелым преступникам (неисправимым ворам, конокрадам и т. д.), в порядке обычного права или, быть может вернее, обычного самосуда» [19, с. 336], хотя если взять исполнение наказания по обычному праву, не известному легальным источникам права, такие наказания, как «заворачивание в сырую шкуру», «ампутация рук и ног» и «ослепление путем выкалывания глаз или насыпания в них купоросу», с XVII в. не применялись согласно легальным источникам права. По заявлению И. Майского, «подобные наказания, конечно, не предусмотрены никакими писаными законами, но они применяются совершенно открыто и с одобрения хошунного управления», такие формы наказания не упоминаются в маньчжурских законах, не исключается применение китайских правовых традиций в Богдо-ханской Монголии.
В начале ХХ века британская путешественница миссис Битрикс Бул-строд посетила Монголию Богдо-ханского периода и опубликовала в 1920 г. заметки об этом под названием «Мое путешествие по Монголии» [7]. Она не упоминает в своих заметках сведения о правовой системе ханской Монголии, но подробно описала свое пребывание в тюрьме Урги: «Лишение свободы в Монголии является обычным наказанием, как в любых современных цивилизованных государствах, но это чувство кочевника, что заключенный может убежать в одно мгновение, восходит к раннему детству, когда не было никаких других тюрем, кроме юрты». Лишение свободы по монгольскому праву считалось наказанием и практиковалось в маньчжурской и ханской Монголии, реализация этого вида наказания вначале была весьма сложной.
В заметках миссис Галл о её пребывании в тюрьме говорится: «... когда я шла, наткнулась на обитый железом тяжелый деревянный ящик с двумя большими замками, длиной в четыре с половиной фута и шириной в два фута. Было ужасным, что в ящике для перевозки диких животных в поезде может находиться человек. Живой человек. Через боковое отверстие ящика торчали его связанные руки. Он дышал через отверстие в ящике. Тем не менее по сравнению с заключенными в тюрьме этот несчастный чувствовал себя лучше на воздухе. Нам пояснили, что в тюрьме нет места, и некоторых заключенных держат на улице. Во время разговора об этом ужасающем зрелище открыли большой замок на бронированной двери и пустили нас в первое помещение тюрьмы. Было двадцать-тридцать ящиков-гробов, и они плохо пахли. Хотя необходимо чистить дно ящиков, заключенных редко отпускают, а большинство из них приговорены к пожизненному заключению (что кажется самым трудным делом, кроме как казнить его, потому что он осужден)» [7, с. 113].
Однако законодательство Монголии не предусматривает пожизненное или тюремное заключение. Это, как отметил И. Майский, не было предусмотренное законом наказание.
В начале ХХ в., 29 декабря 1911 г., Монголия провозгласила свою независимость и упразднила 220-летнюю маньчжурскую правовую систему. Несмотря на предпринятые попытки перенять мировую юридическую практику, маньчжурская или китайская правовая культура и старый режим продолжали действовать до 1919 и 1920 гг. Мнение И. М. Майского о том, «подобные наказания, конечно, не предусмотрены никакими письменными законами, но они применяются совершенно открыто и с одобрения хошунного управления», учитывая письменное свидетельство миссис Битрикс Булстрод, следует признать обоснованным. Процесс реформирования правовой системы в Богдо-ханской Монголии был интенсивным, несмотря на это, правовая культура, довлевшая в сознании монголов в течение более чем 220-летнего правления маньчжуров, оставалась почти неизменной не менее 10 лет.
Описанные в работах британской путешественницы миссис Битрикс Булстрод и российского дипломата И. М. Майского правовая система, уголовно-правовая политика ханской Монголии начала ХХ в. были связаны с маньчжурской правовой традицией и системой, вследствие чего некоторые принятые новые законы и положения оказались неэффективными. Отмены правовой системы маньчжуров для изменения правовой культуры и сознания людей, которая была сформирована в течение более чем 200 лет, было недостаточно. Ханская Монголия, просуществовавшая менее 10 лет, не искоренила маньчжурский дух и в целом восточный мен- талитет. Эти авторы заметили и отметили в своих работах ту сферу, которая не регулировалась законом.
Несмотря на то, что в этот период в Монголии был издан ханский указ, вводящий в действие сборник из 13 законов «Истинные законы и правила» и в 65 томах «Монгольское законодательство, установленное указом», многие из них не применялись на местах. Это может быть связано с тем, что единая правовая система еще не была сформирована.
Толкование (комментарии) Уложения десяти благодеяний
-
1. Хойлго — древний монгольский обряд захоронения умершего с его имуществом, скотом. В словаре Ж. Р. Крюгера — погребальное жертвоприношение иммоламион (магическая процедура, экзорцизм).
-
2. Бацаг — СА: upavasa: воздержание мирян, принявших духовный обет в течение 1 суток от 8 действий называют бацаг.
-
3. Восемь составных частей обета (бацаг)-ca: astangopavasa: воздержание от: 1) совершения убийства, 2) нечистого, 3) лжи, 4) употребления спиртного, 5) получения имущества, 6) веселья, 7) необузданного обжорства, 8) мягкой постели [Толковый словарь буддийской религии, культуры. Кн. 1. Улан-Батор, 2015. С. 134].
-
4. Хувраг — ca: sangha: человек, ставший на путь обучения в целях избавления от мирского (нисванисыг). Один из трех высших [Толковый словарь буддийской религии, культуры. Книга первая. Улан-Батор, 2015. С. 444].
-
5. Цорж — ca: dharmasvamina: верховный жрец. Заместитель Хамбы, должностное лицо, руководившее процессом организации молебна в дацане. На монгольском звучит как сунжран цорж. [Толковый словарь буддийской религии, культуры. Кн. 1. Улан-Батор, 2015. С. 481]. В «Белой истории 10 благодеяний» написано: «Тому, кто познает океан священных сутр, присуждают звание цорж ламы».
-
6. Хунтайж — со времен Юаньской империи так называли старшего сына хагана. Китайское слово, которым называли сына хагана, наследника престола. Этот титул ранее был известен во времена китайского государства Восточное Чжоу, присваивался старшему сыну хана. В период династии Хань наследника престола называли тайзи [Tserendorj Ts. On the name «Ger(e)je jalayir gungtayiji». Acta Historica. T. VI. Ulanbator, 2005. P. 81–83].
-
7. Равжамба — rabjamba — тибетское слово в значении «чрезмерный». Завершившему 13 ступеней Чойри, в совершенстве овладевшему теорией буддийской философии присуждали ученую степень «равжамба» [Сух-баатар О. Словарь иностранных слов в монгольском языке. Улан-Батор, 1999. С. 182].
-
8. Гавж — ученое звание после изучения 5 томов священных книг Чойри, выдержавшие экзамен на получение ученой степени получали звание габжи. Ученая степень — «постигший десять трудностей» — присуждалась обучившемуся по специальности «буддийская философия». Ученое звание, присуждавшееся изучившему полное учение Цанид, подтвердившему знания путем сдачи экзамена на получение звания. По традиции ламе со званием Габжи преподносили золотую шапку из березовой кожуры с круглой верхушкой, с широкой прямой каймой. Внешняя сторона шапки имела золотистый цвет, края обшиты нитью, на макушке пришивали алмаз, обрамленный золотом. Ламы габжи могли свободно покидать территорию дацана.
-
9. Тайжи — новое поколение Золотого рода, появившееся в результате увеличения численности потомков великого хагана, уступали прежним хунтайджи объемом полномочий, привилегий, наследными территориями, численностью подвластного населения. Тайджи — китайское слово, означавшее «сын хагана». С XII в. монголы начали использовать это слово в качестве титула. В монгольском источнике «наследник сын хагана — тайжи» [Гомбожав. Толкование на основе сравнительного анализа). Хух Хот, 1981. С. 132]. Ранее в Монголии и государстве кереитов был чин тайджи. Тайджи — малочисленные представители хагана, ханской династии. Правовое положение было без сомнения высоким, вместе с тем не установлено какую функцию они выполняли. Утверждение о том, что сын второго монгольского хана Амбагая Хадаан имел чин тайджи, являлся вторым после хана по степени важности должностным лицом в армии, ошибочно [Гэрэлбадрах Ж. Была ли должность тайджи в монгольской империи? Верно ли название государства «Хамаг монгол». Улан-Батор, 2006. С. 47–53]. В источниках сохранилась запись о том, что прибывшие в Монгольскую империю представители Китая называли сыновей Чингисхана тайджами [Комментарии полных заметок о монголо-татарах. Записи о завоеваниях великого героя, богатыря. Хух Хот, 1985. С. 113]. В Юань-ской империи список государственных чиновников возглавляли тайджи. [Белая история о десяти благодеяниях. Лю Жин Со. Хух Хот, 1981. С. 88–89].
-
10. Гэлэн. Название категории лам в буддийской религии. Высшая категория ламства. Гэлэнги должны соблюдать обет воздержания от более 250 действий. Из них 4 основные: соблюдать целомудрие, не воровать, не лгать, не убивать. Имеет значение «совершать благодеяние».
-
11. Хонжин — один из чинов Юаньской империи, сохранившийся в Монгольском государстве. По мнению китайского исследователя Лю Жин Со, хонжин — титул чиновника, ведавшего вопросами церемониала. Рин-чингава считает, что в Юаньской империи хонжин — должностное лицо,
руководившее церемониальной процедурой. Сайшаал высказывал иное мнение: Хонжин — производное от китайского слова «гуан жин» и имел значение нойон [Белая история 10 благодеяний Монголии / сост. Б. Ба-ярсайхан. Улан-Батор, 2002. С. 93–94].
-
12. Тайши — учитель хагана, великий учитель. Древний китайский чин, имеет значение «учитель» [Белая история Лю Жин со. Хух Хот, 1981. С. 88–89]. Как отмечал профессор Пунсаг, должность Тайши была известна в период китайского государства Шан (XVII–X в. до н. э.), которую занимал сын нойона. Эта должность среди монголов получила распространение с периода империи Юань. Близких сановников — советников великого хагана — называли тайшами. А вот утверждение Лувса-нданзана в «Алтан товч» о том, что Чингисхан жаловал Мухали чин «чинсан тайши», не подтверждено сведениями из других источников. Тайши — одна из восьми должностей среднего звена системы управления Юаньской империи. [История о названии белой истории 10 благодеяний / сост. Б. Баярсайхан. Улан-Батор, 2002. С. 94–96]. В «Белой истории» должность тайши определяется как государственный чиновник: «4 государства должны знать 4 тайши». Согласно сведениям «Шара туджи», 4 тайши были представлены верховным ученым тайши, верховным государственным тайши, верховным правителем для спасения населения, верховным благословенным тайши — хранителем государства [Шара туджи. Монгольская летопись XVII в. Сводный текст / пер. Н. П. Шастиной. М.; Л., 1957. С. 186].
-
13. Зайсан — княжеский титул времен империи Юань. Производно от китайского цзай. Российский исследователь Н. П. Шастина определяла как старинный почетный титул, происходящий от китайского «дай-фу», что значит «великий муж» (производное от китайского «дай-фу» — великий муж, друг в значении древний китайский почетный титул). Еще в Х в. хан Амбаган правитель государства киданей, разделив государство на южное и северное поставил во главе составных частей зайсана — второе по степени важности должностное лицо, после хана. В реестре государственных должностей империи Юань была должность зайсана. В «Белой истории есть упоминание о зайсане: Знай семерых зайсанов, ведающих семью великими бингами» [История Белой истории монгольского государства / сост. Б. Баярсайхан. Улан-Батор, 2002. С. 100].
-
14. В «Белой истории»: «государство учения», во-вторых, в равной мере соблюдать принципы двух правителей, прежде учредить государство религиозного учения, из правил двух властей прежде проводить религиозные. Вращающий, ведающий тысячей золотыми молитвенными коле-
- сами, цилиндрами, умело проводящий, не смешивая политику государства и религии, верховный Чакравардин Хаган.
-
15. Власть религиозного учения так описана в «Белой истории: 1. Власть истинного учения подобно крепкому узлу несокрушима». 2. Всякий без власти религиозного учения попадает в животный ад. 3. Обучаясь власти религии и священным книгам познаешь качество чая, вкус еды, хлеба, следуешь правилам чистого государства.
-
16. Увш-ca: upasaka: один из семи категорий духовных лиц. Мирянин, принявший духовный обет: обязательство соблюдать пять основных ограничений главного учения (не убивать, не лгать, не употреблять спиртное, не брать взятку, соблюдать целомудрие). Это тибетское слово в значении «приблизиться к добродетели» в переводе на монгольский язык получило распространение в санскритском варианте upasaka — увш [Толковый словарь буддийской религии и культуры. Кн. 2. Улан-Батор, 2005. С. 339].
-
17. Увсан — ca: upasika: один из 7 категорий духовных лиц, женщина, мирянка, принявшая духовный обет: соблюдать 5 основных ограничений — главную основу учения. По-тибетски: гэнэнма, на санскрите upasika, на монгольский переводится как увсанз [Толковый словарь буддийской религии и культуры. Кн. 2. Улан-Батор, 2015. С. 339].
Список литературы Проблемы исследований первоисточников по истории монгольского права
- Алтангэрэл Т. Великий Цааз Монгольского Ойрата и его изучение. Улан-Батор, 1998. С. 20.
- Алтангэрэл Т. Памятники монгольского права XYI–XYII вв. Улан-Батор, 1999. С. 8, 9.
- Белая история Арван буянт номын / сост. Лю жинсо. Хух-Хото, 1981. С. 88–89.
- Бира Ш. Об одном законе, изданном Хутагтай Сэцэн хунтайджием: тезисы научного издания. Первый из десяти томов. Улан-Батор, 2017. С. 99.
- Бира Ш. Об одном законе, изданном Хутагтай Сэцэн хунтайджием // ШУА известия. 1970. № 3. С. 14.
- Бира Ш. Рукопись одного уложения XVI в. Подборка научных работ в 10 т. Улан-Батор, 2017. Т. 1. С. 13.
- Битрикс Булстрод (миссис Эдвард Манико Галл). Мое путешествие по Монголии / пер. Г. Ганболда. Улан-Батор, 2013. С. 113.
- Бичурин Н. Я. Заметки о Монголии / пер. Б. Даш-Ёндона. УланБатор, 2019. С. 15, 273–351.
- Болдбаатар Ж., Лүндээжанцан Д. Исторические традиции монгольского государства и права. Улан-Батор, 2011. С. 149–150.
- Болдбаатар Ж., Лундэжанцан Д. Исследования по истории государства и права. Улан-Батор, 2011. С. 149–150.
- Буян-Ульзии Е. Свидетельство о смерти Халх-Ойрат. Улан-Батор, 2017. С. 68, 73.
- Ван-Гу. Письменность ханства, повеления хунну / пер. Б. Батжаргал. Улан-Батор, 2016. С. 34.
- Великая книга древних монгольских ханов. Источники по истории Монголии XVII века / исследователи первоисточника С. Чулуун, Г. Цэрэндоо. Улан-Батор, 2011. С. 38.
- Дашням И. История монгольского государства и права. Т 1. III в. до н. э. — V в. н. э. Изд. 2-е, доп. Улан-Батор, 2012. С. 224–225.
- Доклад Министерства внутренних дел государства-воина о монгольской письменности. Разделы XXI–XXII / под ред. Ш. Чоймаа, Д. Заябаатар. Улан-Батор, 2017. С. 380.
- Дэлгэржаргал П., Батсайхан З. Хунны. История Древней Монголии. Улан-Батор, 2017. Т. 1. С. 90.
- Өлзийбатар Д. Исследования по истории Монголии: философия истории, новые подходы и проблемы // История Монгольской Народной Республики (Появление учебников по истории Монголии, адаптированных к социалистической идеологии). Улан-Батор, 2014. С. 23.
- Леонтович Ф. И. Древняя монголо-калмыцкая или ойратская хартия была пересмотрена (Цааджин-Бичик). Одесса, 1879. C.15.
- Майский И. Современная Монголия (Автономная Монголия в начале ХХ века) / пер. с рус. Ц. Отхона. Улан-Батор, 2005. С. 331, 336.
- Мияваки Жунко. История Монголии. От древних кочевников до современной Монголии / пер. с яп. Р. Баттогтох. Улан-Батор, 2017. С. 176.
- Монгол цаазын бичиг. Сборник монгольских источников права / под ред. Д. Эрдэнэтогтох. Внутренняя Монголия, Китай. 2015. С. 65.
- Намжил Т. Культура, нравы и обычаи монголов-ойратов. История культуры, языка, письменности // Bibliotheca Oiratica. LIV. Улан-Батор, 2017. С. 142.
- Оюнжаргал О. Политика маньчжурской династии по управлению Монголией. Улан-Батор, 2009. С. 13.
- Письменные памятники, связанные с принцем Цогтом. Написание исследовательской группы: Ц. Баттулга, Ю. Янчев, Д. Будсурэн, Б. Пурэвдэлгэр, Д. Уранцэцэг, Л. Халиюн. Улан-Батор, 2005. С. 21.
- Полумордвинов М. А. Исторические записки. Исторические исследования. Китайцы ассимилируют малые народы, используя свое численное преимущество и культурное превосходство. Издатель: Оохнойн Батсайхан, Тачибана Макото. Улан-Батор, 2018. С. 44.
- Собрание записей постановлений министерства внутренних дел Воюющего государства. Т. XXI–XXII / сост. Ш. Чоймаа, Д. Заябаатар. Улан-Батор, 2017. С. 380–381.
- Сүхбаатар О. Монгольский словарь иностранных слов. УланБатор, 1999.
- Харрари Н. Ю. Краткая история человечества / пер. на монг. Б. Томор, Ч. Басасанжаргал, Т. Ариунсанаа. Улан-Батор, 2017. С. 380–391.
- Цэвэл Я. Краткий монгольский словарь. 2-е изд. Ц. Шагдарсурэн, который рассмотрел слова, значения, примеры, объяснения и приложения. Улан-Батор, 2013. С. 173.
- Шара тууж древних монгольских ханов. Основополагающие источники изучения истории монголов XVII в. Исследователи первоисточников профессор С. Чулуун, Г. Цэрэндоо. Улан-Батор, 2011. С. 8, 9.
- Эрдэнийн товч о родословной хаганов. Основные источники монгольских исторических летописей XVII в. Комплексное исследование первоисточников доктора (Ph.D) М. Баярсайхан. Улан-Батор, 2011.