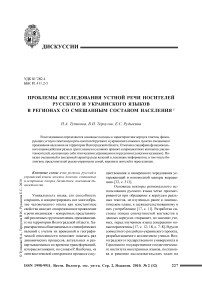Проблемы исследования устной речи носителей русского и украинского языков в регионах со смешанным составом населения
Автор: Тупикова Н.А., Теркулов В.И., Рудыкина Е.С.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
В исследовании определяются основные подходы к характеристике корпуса текстов, фикси- рующих устную спонтанную речь носителей русского и украинского языков в пунктах смешанного проживания населения на территории Волгоградской области. Отмечена специфика функциональ- ного взаимодействия разных групп лексики в условиях прямого и перманентного контактов диалек- тоносителей, осознающих себя этническими украинцами или русскими (донскими казаками). По- казан смешанный и анклавный характер ряда явлений в лексиконе информантов, в том числе би- лингвов, представителей русско-украинских семей, коренных жителей и переселенцев.
Язык региона, русский и украинский языки, лексика, донские, смешанные и островные говоры, билингвизм, анклавная ди- алектология
Короткий адрес: https://sciup.org/14969481
IDR: 14969481 | УДК: 81282.4
Текст научной статьи Проблемы исследования устной речи носителей русского и украинского языков в регионах со смешанным составом населения
Уникальность языка, его способность сохранять и концентрировать все многообразие человеческого опыта как константные свойства находят опосредованное проявление в речи индивидов – конкретных представителей различных групп населения, проживающего на территории Волгоградской области. Характеристика общезначимых и специфических явлений с учетом их временной и географической отнесенности позволяет показать ряд динамических процессов, актуальных и развертывающихся во времени трансформаций, которые возникают, по словам Р. Якобсона, «в лингвистической синхронии в процессе сосу- ществования и намеренного чередования устаревающей и новомодной манеры выражения» [32, c. 313].
Основные векторы регионального использования русского языка четко просматриваются при обращении к корпусам реальных текстов, не изученных ранее в лингвистическом плане, к засвидетельствованному в них употреблению [17, с. 11]. Разработка системы поиска совокупностей контекстов в данных корпусах открывает, по мнению ученых, перед изучением языка совершенно новые перспективы [17, с. 12; 18, с. 7–8]. В русле совместного российско-украинского проекта, разрабытываемого коллективом ученых Волгоградского государственного университета и Горловского государственного педагогического института иностранных языков, постановка и решение исследовательских задач на базе фактического материала, извлеченного из «реальных текстов» – записей устной речи жителей обследуемых населенных пунктов, диалектоносителей, дает основание в той или иной степени представить диапазон речетворческой деятельности личности в коммуникативном пространстве данного региона, обозначить проблемные вопросы, которые требуют решения. Кроме того, фиксация живой речи «в условиях конкретной обстановки данного момента» (Л.В. Щерба) способствует расширению массива фактов, которые могут быть представлены в Национальном корпусе русского языка, дает новый объем информации для корпусной лингвистики, активно развивающейся в последнее время [18], для изучения процессов, которые относятся к «микроэволюции» языка: малозаметных изменений сочетаемости и значений слов, частотности употребления вариантов, регистрации появления или угасания отдельных явлений языка и т. п. [там же, с. 14].
«Язык и только язык связывает славян друг с другом», – писал Н.С. Трубецкой [29, с. 206–207], рассматривая понятие «славянство» и подчеркивая важность лингвистического аспекта при характеристике процессов межславянского взаимодействия. Коллективы, в которых живут людские индивиды, имеют, как известно, различные уровни: микро-(семья, ближайшие соседи, трудовой коллектив и т. д.), мезо- (население деревни, города, области и т. д.), макроуровень (население государства) [8, с. 31], на каждом из которых этническая определенность (моно- или поли-этничность) выступает не только как существенный фактор в развитии любого человеческого индивида, но и как реалия жизни – осознание и признание своей принадлежности к какому-то этносу, понимание родства с каким-то множеством людей по ряду параметров – общности языка, образу жизни (или некоторым его элементам), специфическим комплексам культуры (фольклору, нормам поведения и др.), по своеобразным традициям в быту, семье, по «историческим корням», исторической памяти [там же, с. 25–26]. Исследование данного феномена в региональном аспекте представляет научный и практический интерес, в том числе потому, что связано, с одной стороны, с созданием регионально-ин- теграционных моделей решения этнокультурных проблем в русле глобализационных процессов, с другой стороны, с сохранением условий для самоидентификации личности и развития ее этноязыкового сознания.
В рамках проекта особое внимание обращается на факторы формирования и специфику лексикона носителей русского и украинского языков, в том числе билингвов и представителей смешанных семей, проживающих на территориях Волгоградской и Донецкой областей [1; 13; 20; 25; 26; 30; 31]. Рассмотрение проблемы предполагает изучение роли культурно-исторических, собственно лингвистических и коммуникативных факторов, которые обусловливают этнолингвистическое своеобразие регионов позднего заселения.
Следует сказать, что в отечественной и зарубежной лингвистике заложены традиции исследования живых процессов, свойственных устной народной речи. Разноуровневому анализу подвергаются исконные диалекты, а также говоры вторичного формирования, к которым относятся ранние переселенческие донские и собственно переселенческие позднего формирования волжские говоры, отмечаются явления смешанных и островных говоров, результаты русско-украинского языкового взаимодействия [2; 3; 4; 12; 14; 15; 19; 21; 22; 24; 28], рассматривается функционирование русского и украинского языков, в том числе в аспекте междиалектных русско-украинских контактов вне территории Украины, в населенных пунктах Украины с русскими говорами, которые сохраняют южнорусскую основу и т. д. Однако в полной мере культурно-исторические связи славянских народов, которые находят опосредованное выражение в речи коренных жителей и переселенцев на территориях позднего заселения, не освещены. Различные подсистемы донских казачьих, украинских, смешанных, островных говоров, зафиксированных в конкретных местах их бытования, не имеют детального описания; процессы интерференции в лексиконе диалектоносителей – представителей русско-украинских смешанных семей, специфика устной речи такой языковой личности целостно не охарактеризованы. В то же время отнесение индивида к группам населения той или иной национальности по критерию знания родного языка либо не учитывая последнего (только на основе самооценки), сознательное поощрение или затушевывание субъективного этнического восприятия индивида по разным параметрам, в том числе и по языку, постановка вопроса о правах и возможностях разных языков в условиях инонационального окружения – это вопросы государственного языкового планирования, острота которых до сих пор не снята в нашем обществе [7, с. 2].
Население Волгоградской области, проживающее по Волге и Дону, характеризуется разнородным в языковом отношении составом; в частности, в речи жителей наблюдаются, по выражению В.М. Жирмунского, «черты диалектологического смешения» [9, с. 51]. Соединение черт южнорусских и украинских территориальных диалектов волгоградские лингвисты квалифицируют по-разному: как образование смешанных говоров в составе собственно переселенческих говоров [15] (об этом пишут чаще при анализе волжских говоров); как явление островных украинских говоров на территории Волгоградской области [21], когда в определенных пунктах функционирует украинский, или, по словам местных казаков, «хохлячий» говор [15, с. 43–44; 24].
Собранный участниками данного проекта в полевых условиях материал, в том числе во время экспедиций в село Мачеха Киквид-зенского района Волгоградской области, свидетельствует о наличии билингвальной ситуации, при которой украинский язык, наряду с русским, сохраняется на уровне бытового общения местных жителей, осознающих себя этническими украинцами. В беседе Рыжих (Колпакова) Евдокия Андреевна (1929 г. р.) так ответила на вопросы: Вы здесь родились? – Здесь. <... > – Казачья семья? – Нет. – А какая? – Та, вроде, хахлы . Сахнова Анастасия Леонтьевна (1942 г. р.) сказала: Украйiнка йа, <... > Сахнова девiч ’йа фамiлiйа. <...> Родiтелi мачушанскiйе. Сахнова Таисия Ивановна (1942 г. р.) ответила так: А родители у вас кто, украинцы? – Аγа. <...> – А муж-то был казак или хохол? – А тош хто!!! Хахол . <...> – А дома как говорили, по-русски или по-украински? – Па-хахлач’и.
Ярче всего специфика межъязыковых контактов представлена в ситуации, когда дети вынуждены разговаривать с матерью и отцом на том языке (диалекте), который предпочитает каждый родитель. Магомедова (Юрченко) Валентина Дмитриевна (1950 г. р.) рассказала: Дед был у нас кубанский казак, бабушка была данская казачка. Вот. Мать вышла як украинка. <...> Вышла замуш за данскоγо же казака – Шматкова Дмитрия Ивановича. <... > Жылы так: батьковэ отвечалы на русском языке, а матэри отвэчалы на украинском языке. <...> – И у вас в паспорте написано, что Вы украинка? – И я украинка, написано, и хоть мой батько русский был, у мамы в тому свидетельстве о рождении. Мать Юрченко Мария Павловна – украинка.
Истоки данного явления имеют историко-географический характер. Села Киквидзен-ского района расположены в пойме рек Бузулук и Мачеха, где начало заселения земель относится к XVI столетию. Анализ архивных данных дает возможность ученым установить, что колонизация Нижнего Поволжья малороссиянами наблюдается в конце XVII века; затем, после 1716 года, это связано с указом Петра I и со строительством Царицынской сторожевой линии, вдоль которой селились выходцы из Полтавской, Харьковской, Черниговской губерний; следующий этап освоения пустующих земель приходится на эпоху Екатерины II, когда образовались дворянские вотчины, заселенные украинцами. Известно, что массовое переселение украинцев в Нижнее Поволжье относится к началу казенной добычи соли (1747 год), очередная волна организованных переселений была вызвана малоземельем крестьян; одновременно с украинцами происходило и переселение русских, в основном из южных губерний. Краеведам известно, что слобода (теперь – село) Мачеха, основанная в 1790 году, свое название получила в память о том поселении, откуда родом были переселенцы, – из-под Полтавы. Жители полтавской Мачехи относились в свое время ко 2-й сотне Полтавского казачьего полка. На новых землях они занимались преимущественно сельским хозяйством [16].
Русские и украинцы в пунктах их смешанного проживания первоначально, вероятно, пользовались каждый своим диалектом, исключая из коммуникации узколокальные единицы, поскольку местные условия мало способствовали активным контактам этнических групп [21; 22]. В последующем, под воздействием экономических, социально-культурных и других факторов, развивается ситуация естественного двуязычия, когда наряду с украинским использовался русский литературный язык, превращающийся из вторичной системы в доминирующую, полифункциональ-ную [21]; в составе смешанных семей и в рамках данной территории активно контактировали носители донских казачьих и украинских говоров [20].
Фиксация речи потомков этнических украинцев и представителей смешанных семей (русских, донских казаков и украинцев) дает возможность говорить о более или менее свободном владении билингвом устной формой русской и/или украинской речи, при котором достигается практически полное взаимопонимание с другими людьми на любом из двух языков. Понятие билингвизма, не отличающееся единообразием трактовок в научной литературе, включает способность индивида к попеременному использованию при общении двух языковых систем, независимо от степени владения ими [21, с. 3]. Следует отметить, что четкое разграничение в языковом сознании контактирующих русской и украинской национальностей не исключает в речи жителей села Мачеха соседства южнорусских и украинских слов, явлений донских и украинских говоров, русского литературного языка и диалекта.
Специфика социолингвистической составляющей рассматриваемого явления, особенности характеристики и проблемы классификации переселенческих говоров убеждают в возможности их рассмотрения на базе идей, высказанных В.М. Жирмунским в работах о «колониальной диалектологии» [9; 10; 11, с. 37–38]. Смешение как важнейший признак образования диалектов порождает, по мнению ученого, большой интерес к колониальным говорам, на материале которых можно проследить образование нового языкового единства с учетом исторических данных о первоначальном составе колонистов [10, с. 147]. Применительно к данному исследованию это проблема определения источника миграции (хаотичное переселение, целенаправленное, в связи с процессами индустриализации и др.).
Колебания, дублеты, остаточные явления (реликты), гибридные образования, заимствования [10, с. 147–148, 150] будут характеризовать динамический процесс «столкновений», «идущих в разных направлениях языковой территории, на основании политических и культурных связей» [там же, с. 148]. Имея в виду языковую ситуацию в обследуемых населенных пунктах, можно при этом исходить из общего замечания, сделанного ученым: «крестьянин, говорящий на диалекте, всегда билингв (двуязычный): кроме своего родного языка, местного крестьянского диалекта, он владеет также “языком других” (“Sprache der Anderen” – по терминологии Бехагеля), с которым знакомится в школе, который преподносится ему в печати, который он сам употребляет…» [9, с. 16].
В развитие положений, обоснованных В.М. Жирмунским, в качестве первого аспекта исследования можно выдвинуть определение статуса островного идиома в иноязычной, инодиалектной среде. Одним из направлений такой интерпретации становится идея о существовании украинских анклавных говоров на территории Волгоградской области [1; 26], в частности в Киквидзенском, Ольховском, Старополтавском и других районах, где разные села создавали выходцы из разных мест и, следовательно, носители разных украинских диалектов. В этом случае островной идиом связан с группой говоров, так как та или иная территория стала объектом переселения носителей разных (далеких или близких) диалектов иного языка. Между носителями таких анклавных говоров украинского языка на территории области нет постоянного контакта, они не осознают себя как этнически единое сообщество, чего не скажешь, например, об украинцах Кубани, которые воспринимают себя как кубанское казачье единство [27], что позволяет говорить о едином наречии анклавного характера на Кубани, то есть о единстве анклавных говоров, опирающемся на единый анклавный этнос. Такова ситуация, например, и в Донецкой области Украины, где помимо островных донских говоров сформировалось «общеобластное» донское анклавное наречие русского языка. С этой точки зрения может быть охарактеризована, в частности, диалектная среда в селе Торское Краснолиманского района, в котором участниками проекта осуществлена запись устной речи информантов – переселенцев, потомков донских казаков, чьи прапрадеды хранили в памяти и передавали из поколения в поколение историю Войска Донского, рассказы об отряде под предводительством Кондрата Булавина, стоявшем вблизи станицы Торской в 1707 году, о соратниках Булавина на территории Краснолиман-щины. Яркой приметой бытования донского говора на территории Торского является использование ряда названий, в том числе Га-мазеевский ручей – бьющий источник, который находится возле церкви (см.: гамазея – магазин [5, с. 102; ср.: 6, с. 122]); Гамазеев-ка – неофициальное название части села на Кооперативной улице, где когда-то были устроены склады (магазины) для хранения зерна и других продуктов. Исследование связей с метрополией – метрополийной экспансии (как в русских селах Донецкой области), когда язык повседневного общения сопрягается с использованием нормативного литературного русского языка в других сферах общения (через радио, телевидение и т. д.), и метрополийной индифферентности (как в селах Волгоградской области с преобладающим украинским населением), когда на данной территории не культивируются нормы литературного украинского языка, – составляет важный аспект обоснования анклавного характера говора применительно к решению поставленных вопросов [25; 26]. По мнению украинских ученых, главной предпосылкой сохранения в поселениях украинского языка как основного в бытовом общении, сохранения украинского менталитета, кухни, фольклора и т. д. является исторически сложившаяся на данных территориях этническая обособленность украинцев на территориях между Волгой и Доном, когда они старались селиться отдельными от казаков этническими массивами, например на разных берегах одной реки, по соседству друг с другом, напротив и под. [23, с. 102].
В процессе интервьюирования обнаруживается разная лингвистическая компетенция информантов, что в первую очередь связано с условиями компактного проживания, уровнем образования и сферой деятельности опрашиваемых лиц. Определение типов носителей языка (диалекта) – важная составляющая предпринятого исследования. В обследуемых населенных пунктах отмечаются три основных типа: монолингвы – в нашем случае это некоторые пожилые носители русского островного говора, например в селе Торское Крас-нолиманского района Донецкой области; на территории обследованных сел Волгоградской области, например села Мачеха, также встречаются представители старшего поколения – украинцы, плохо понимающие нормативную русскую речь, те, с кем в коммуникативном плане общение как с информантами затруднено. Другая ситуация – с людьми, говорящими на украинском (в России) или казачьем (в Украине) диалекте и хорошо понимающими родственный язык (литературный и диалектный) в ситуации двуязычия. Это группа пассивных билингвов, сфера деятельности которых ограничена сельскохозяйственным производством, физическим, домашним трудом и образование которых включает, как правило, начальные классы; многие такие жители общаются на диалекте, в том числе могут говорить только по-украински или только по-русски, хорошо понимая при этом другой говор, охотно вступая в диалог с носителями иного диалекта и литературного языка. Чаще всего житель из малообразованной части населения свободно владеет одной разновидностью языка своего этноса – разговорной и обнаруживает незнание или недостаточное знание литературных разновидностей в противоположность тем представителям населения, кто имеет высшее или среднее специальное образование, работает (или работал) в государственных учреждениях, организациях, на производстве, руководящих должностях, в сфере образования, культуры, медицины и т. д.; такие диалектоносители – активные билингвы, свободно владеющие системой литературного языка и диалекта, продуцируют и понимают литературные тексты, а при изменении ситуации, собеседника лица, осознающие свою принадлежность к казачьему или украинскому этносу либо рожденные в смешанных семьях (особенно представители старшего и среднего возраста), могут переходить на казачий или украинский диалект, использовать разговорно-обиходную разновидность русского языка, в условиях бытового общения смешивать элементы разных славянских языков и диалектов. Из разговора с Евдокией Андреевной Рыжих (Колпаковой): А что ели? – Ну цю ж кашу, взвары там, щи, суп, тыква, буряк. Вот такэ. <...> Кампот варили, вместо сахара клали яблоки или γрушу и свёклу, щоб сладкое была. – Щарыца, лобода, потом лопаточкы. И ели это с кар-тошкай. Мешали картошку, ну и γлотаи-ца легше, чем одна каша. И выжыла, γлянь! Из рассказа Евдокии Андреевны о своей жизни: Колы я бросыла школы, эти тры класса. Ой, обуца абсолютно нэчо, надэца абсолютно нэчо <…> а вин кажэ: «Дуська, ты змэрзла?» – А я: «Ни-и-и». Рассказывает Степан Бароменский (1931 г. р.): А родители оказались… Это их с Украины. В ихнем паспорте было, что украинец. <...> Сперва я работал в МТС. Был МТС. Работал учеником-жестянщиком, а потом меня перевели мастером. <...> А потом меня вызывает директор, Терещенко такой был у нас: «Степан, ты знаешь, я з тебе хочу зделать чоловiка». – Соседка: Дядя Степа, балакай по-хохлацки. – Бароменский С.: Яко-γо ж з мэнэ чоловiка зробыты хоч’тэ? – «Я тебе пошлю на курсы комбайнеров в Урюпинск»...
Рассматриваемые особенности устной речи относятся к явлениям прямого и перманентного контакта, когда имеет место непосредственная коммуникация носителей русского и украинского языков, активное, долговременное и постоянное их общение на данной территории, в данном сообществе, семейном быту и вследствие этого на лексическом уровне появление большого количества параллелей, дублирование, вытеснение украинских соответствий в пассивный словарь, использование элементов литературной речи и казачьего диалекта и др. [30; 31]. Например, в речи билингвов – жителей села Мачеха – параллельно функционируют лексические украинизмы и русизмы, диалектные и литературные эквиваленты, описательные выражения, контекстуальные пояснения, используемые для наименования продуктов питания, блюд, одежды, предметов обихода, посуды, сельскохозяйственной продукции, обозначения конкретных действий, состояний, взаимоотношений людей и т. д.: буряк – свекла, γарбуз – тыква, дид – дедушка, батько, тато – отец, маты – мать, жынка – жена, кочэ-ток – петух, кожух – шуба, картопля – картошка, байрак – овраг, багша – бахча, цеберка – ведро, ча(у)вун – глэчык, ба-чить – видеть, чыплялись – ухлыстауся – познакомилысь, робыл – работал, балакать – гаварить, сам – адин, як – как, паки – пака, богато – много, нэма – нет и др.; зафиксированы дублеты, включаемые информантами в свою речь для объяснения словоупотреблений: зилье – капуста, каша зли-тая – каша пшенная, яйца красят – роб-лят крашенки, балероны – жестяные тарелки, чаплыйка – дэржатель (по-русски), γлэчыки – γоршки, кочэрышки – кофшыки, нэнька – мама, тато – папа, хохлы – (по-культурному пишется) украинцы, а це ла-дунка – пид рубашкою на довгому шнурке мешочек такой прямоцгольный и росши-тый руками чи машинкой, талисман, у цу ладунку клалы гостынци, ее выбраковали (я выбракованный) – некого было выбирать (нэма никоγо, вси повыходыли замуж) и др.
Анализ материала показывает, что на синхронном срезе в рамках определенной территориальной и временной локализованности можно разграничить старые (исчезающие) варианты (дублетные, синонимические единицы и т. п.), зафиксированные в устных рассказах «носителей традиционного слоя говора» [4, с. 38], и новые, постепенно распространяющиеся, появление которых вызвано проникновением в речь этнических украинцев элементов из донских говоров и из литературного русского языка.
Для анализа материала, собранного с применением открытого опроса информантов, в рамках рассматриваемых направлений и аспектов исследования, различных подходов, оценки наблюдаемых явлений необходима систематизация данных на основе различных параметров как экстралингвистического порядка (сведений о населенном пункте, возрасте, профессии, сфере деятельности информанта и т. д.), так и лингвистического, позволяющего охарактеризовать широту тематической, лексико-семантической представленности единиц, классифицировать номинативные модели, объединяющие речевые единицы на основе их инвариантного признака, формальной взаимосвязанности, показать фразе- ологические и другие сочетания в качестве вариантов, аналогов [13; 20; 30; 31]. Одной из задач исследования ситуаций взаимодействия разногенетических и разнофункциональных языковых пластов является разграничение: а) случаев сохранения исконных состояний, при котором наблюдается единственное наименование лиц, объектов (материальной и духовной культуры) в том же значении, что и в исконном диалекте (национальном языке), б) синонимичного употребления лексических украинизмов и русизмов (южнорусской, донской лексики), в) параллельного использования, различающегося семантическими оттенками, г) замены (либо утраты) каких-либо единиц на основе заимствования.
Скрупулезное описание особенностей устной речи диалектоносителей, в первую очередь в лексикологической ее части, создание электронной базы данных о важнейших процессах в речи носителей русского и украинского языков на территориях смешанного проживания населения, выявление факторов локализации ряда черт, способствующей предотвращению нивелировки говоров, может стать составной частью работы по созданию объективной картины функционирования языка в региональном коммуникативном пространстве, в многообразии его речевых регистров и вариантов. Записи устной спонтанной речи информантов (представителей этнических групп донского, хоперского казачества и украинской этнической группы) дополняют уже известные сведения о событиях, сопутствующих процессу формирования многонационального Российского государства, являются ценным источником пополнения Национального корпуса русского языка. Новые данные, извлекаемые при характеристике материала, отчасти восполняют некоторый схематизм в представлениях о речевой практике народа в конце XX – начале XXI века.
Список литературы Проблемы исследования устной речи носителей русского и украинского языков в регионах со смешанным составом населения
- Исследование проводится в рамках совме-стного российско-украинского проекта: грант РФФИ, № 09-06-90401-Укр_ф_а; грант Ф28.5/005 ДФФД Украïни.
- Анклавна дiалектологiя. -Горлiвка: ГДПIIМ, 2009. -44 с.
- Баранник, Л. Ф. Из наблюдений над лекси-кой русских говоров юга Украины/Л. Ф. Баранник//Актуальные проблемы русской диалектологии и исследования старообрядчества: тез. докл. Между-нар. конф., 19-21 окт. 2009 г. -М.: ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН, 2009. -С. 14-16.
- Баранникова, Л. И. Говоры территорий позднего заселения и проблема их классифика-ции/Л. И. Баранникова//Вопросы языкозна-ния. -1975. -№ 2. -С. 22-31
- Баранникова, Л. И. О вариантных единицах диалектных систем/Л. И. Баранникова//Пробле-мы истории и диалектологии славянских языков: сб. ст. к 70-летию чл.-кор. АН СССР В.И. Борковского. -М.: Наука, 1971. -С. 31-38.
- Большой толковый словарь донского ка-зачества. -М.: Рус. словари: Астрель: АСТ, 2003. -608 с.
- Великий сучасний росiйсько-украïнський украïнсько-росiйський словник. 150 000. -Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. -752 с.
- Герд, А. С. Язык как символ/А. С. Герд//ЯЛИК: науч.-информ. бюл. -СПб.: С.-Пе-терб. гос. ун-т, 2009. -Ноябрь (№ 79). -С. 1-2.
- Ешич, М. Б. Этничность и Этнос/М. Б. Ешич//Встречи этнических культур в зеркале языка: (в со-поставительном лингвокультурном аспекте). -М.: Наука, 2002. -С. 7-71.
- Жирмунский, В. М. Национальный язык и социальные диалекты/В. М. Жирмунский. -Л.: Худож. лит., 1936. -300 с
- Жирмунский, В. М. Проблемы немецкой ди-алектографии в связи с историческим краеведением/В. М. Жирмунский//Этнография/отв. ред. акад. С. Ф. Ольденбург. -№ 1. -М.; Л.: Госиздат, 1927. -С. 139-150.
- Жирмунский Виктор Максимович//Ма-териалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. Вып. 5. -М.: Наука, 1965. -94 с.
- Ижакевич, Г. П. Украинско-русские языко-вые связи советского периода: автореф. дис.... д-ра филол. наук: 10.02.01/Ижакевич Галина Прокофь-евна. -Киев, 1968. -50 с.
- Ильин, Д. Ю. Топонимическая лексика в речи жителей Киквидзенского района Волгоградс-кой области/Д. Ю. Ильин//Анклавна дiалектологiя. -Горлiвка: ГДПIIМ, 2009. -С. 21-24.
- Касаткин, Л. Л. К истории аканья -яканья/Л. Л. Касаткин//Актуальные проблемы русской диалектологии и исследования старообрядчества: тез. докл. Междунар. конф., 19-21 окт. 2009 г. -М.: ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, 2009. -С. 220-222.
- Кудряшова, Р. И. Слово народное. Гово-ры Волгоградской области в прошлом и настоя-щем/Р. И. Кудряшова. -Волгоград: Перемена, 1997. -124 с.
- Маноцков, Г. И. Старинные поселения по Бузулуку/Г. И. Маноцков. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://ukrvolga.seun.ru/poseleniya.html.
- Молдован, А. М. Славистика сегодня/А. М. Молдован//Изв. РАН. Сер. лит. и яз. -Т. 68, № 1. -М.: Наука, 2009. -С. 3-15.
- Плунгян, В. А. Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках современной кор-пусной лингвистики/В. А. Плунгян//Русский язык в научном освещении. -№ 2 (16). -М.: Яз. слав. культуры, 2008. -С. 7-20.
- Розенцвейг, В. Ю. Языковые контакты. Лин-гвистическая проблематика/В. Ю. Розенцвейг. -Л.: Наука, 1972. -80 с.
- Рудыкина, Е. С. Языковая личность сквозь призму регионального билингвизма/Е. С. Рудыки-на//Анклавна дiалектологiя. -Горлiвка: ГДПIIМ, 2009. -С. 28-32.
- Северьянова, А. А. Некоторые особенно-сти интерференции при украинско-русском би-лингвизме: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01/Северьянова Александра Алексеевна. -Ростов н/Д, 1977. -15 с.
- Северьянова, А. А. Украинские говоры Волгоградской области/А. А. Северьянова//Воп-росы краеведения: материалы VI и VII краевед. чте-ний. Вып. 4-5. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1998. -С. 256-259.
- Сiнєльнiкова, В. Полiтичнi та економiчнi передумови появи украïнських поселень у поволзь-ких степах у XVI-XIX столiттях/В. Сiнєльнiкова//Народна творчiсть та етнографiя. -2005. -№ 5. -С. 100-104.
- Супрун, В. И. Украинские говоры в России: проблемы их изучения/В. И. Супрун. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://ukrvolga.seun.ru/science/govori.html (дата обращения: 21.10.2009). -Загл. с экрана.
- Теркулов, В. И. К проблеме изучения рус-ских говоров Донбасса/В. И. Теркулов//Актуаль-ные проблемы русской диалектологии и исследо-вания старообрядчества: тез. докл. Междунар. конф., 19-21 окт. 2009 г. -М.: ИРЯ им. В.В. Виног-радова РАН, 2009. -С. 212-213.
- Теркулов, В. I. До проблеми складання карти украïнських дiалектiв Росiï/В. I. Теркулов//Анклавна дiалектологiя. -Горлiвка: ГДПIIМ, 2009. -С. 3-5
- Ткаченко, П. Кубанский говор: опыт автор. слов./П. Ткаченко. -М.: Граница, 1998. -240 с.
- Традиции русского языкознания на Украи-не. -Киев: Наук. думка, 1977. -283 с
- Трубецкой, Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре/Н. С. Трубецкой//Трубец-кой, Н. С. История. Культура. Язык/Н. С. Трубец-кой. -М.: Наука, 1995. -С. 162-210
- Тупикова, Н. А. Изучение лексических осо-бенностей устной речи коренных жителей и пере-селенцев на территории Киквидзенского района Волгоградской области/Н. А. Тупикова//Актуаль-ные проблемы русской диалектологии и исследо-вания старообрядчества: тез. докл. Междунар. конф., 19-21 окт. 2009 г. -М.: ИРЯ им. В. В. Виног-радова РАН, 2009. -С. 220-222.
- Тупикова, Н. А. Специфические черты лексикона русских и украинцев, проживающих на территориях позднего заселения/Н. А. Тупикова, А. С. Лукащук//Анклавна дiалектологiя. -Горлiвка: ГДПIIМ, 2009. -С. 6-10.
- Якобсон, Р. Речевая коммуникация/Р. Якоб-сон//Якобсон, Р. Избранные работы/Р. Якобсон. -М.: Прогресс, 1985. -С. 306-318.