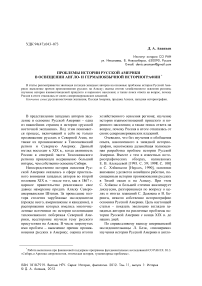Проблемы истории русской Америки в освещении англо- и германоязычной историографии
Автор: Ананьев Денис Константинович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается эволюция взглядов западных авторов на основные проблемы истории Русской Америки: выяснение причин проникновения русских на Аляску; оценка итогов хозяйственного освоения региона; изучение истории взаимоотношений пришлого и коренного населения; а также поиск ответа на вопрос, почему Россия в итоге отказалась от своих североамериканских владений.
Русская восточная экспансия, русская америка, продажа аляски, западная историография
Короткий адрес: https://sciup.org/14737642
IDR: 14737642 | УДК: 94(47).043-073
Текст научной статьи Проблемы истории русской Америки в освещении англо- и германоязычной историографии
В представлении западных авторов заселение и освоение Русской Америки – одна из важнейших страниц в истории «русской восточной экспансии». Под этим понимается процесс, включавший в себя не только продвижение русских в Северной Азии, но также их проникновение в Тихоокеанский регион и Северную Америку. Данный взгляд восходит к XIX в., когда активность России в северной части Тихоокеанского региона привлекала несравненно больший интерес, чем собственно освоение Сибири.
Непосредственно история освоения Русской Америки оказалась в сфере пристального внимания западных авторов во второй половине XIX в. – после того, как в 1867 г. царское правительство реализовало свое давнее намерение продать Аляску Североамериканским Штатам. За прошедшие полтора столетия зарубежные исследователи (прежде всего, американские и канадские), в распоряжении которых имелись многочисленные источники по истории колонизации тихоокеанского побережья Северной Америки, всесторонне изучили тему русского присутствия на Аляске. В числе затронутых ими проблем – выяснение причин проникновения русских в Америку; оценка итогов хозяйственного освоения региона; изучение истории взаимоотношений пришлого и коренного населения; а также поиск ответа на вопрос, почему Россия в итоге отказалась от своих североамериканских владений.
Очевидно, что без изучения и обобщения опыта, накопленного в западной историографии, невозможна дальнейшая полноценная разработка проблем истории Русской Америки. Вместе с тем в известных историографических обзорах, написанных Е. В. Алексеевой [1993. C. 59; 1998. С. 100] и С. Хэйкоксом [Haycox, 1990], основное внимание уделяется новейшим работам, посвященным истории проникновения русских в Тихий океан и на Аляску. При этом С. Хэйкокс в большей степени анализирует дискуссии, разгоревшиеся по вопросу о целях и итогах плаваний С. Дежнева и В. Беринга, нежели собственно историографию освоения Русской Америки. Цель настоящей статьи – показать эволюцию взглядов западных авторов на различные проблемы истории Русской Америки с конца XIX в. до наших дней.
По справедливому выводу американской исследовательницы Л. Блэк, «пионерами» изучения истории Русской Америки в англо- американской историографии стали Г. Х. Бэнкрофт, У. Х. Долл, К. Л. Эндрюс и Г. Шеви-ньи. С именами первых двух исследователей, ратовавших за скорейшую «американизацию» Аляски, были связаны многочисленные «стереотипные» представления о негативных последствиях имперской политики России в Америке, в том числе – «варварском» обращении с коренным населением и истреблении пушного зверя. В конце XIX в. данный взгляд был оспорен К. Л. Эндрюсом (1862–1948), который был очарован «русским периодом» в истории Аляски – «одним из наиболее ярких и наименее изученных в истории Северной Америки». Выучив русский язык, К. Л. Эндрюс занялся сбором многочисленных источников по истории Русской Америки. Итогом его многолетней работы стала публикация двух монографий: «История Ситки» [Andrews, 1922] и «История Аляски» [1931]. В 1942 г. названный автор написал биографическое исследование об А. А. Баранове, но эта книга так и не была опубликована.
Еще в конце 1930-х гг. Эндрюс познакомился с журналистом и писателем Г. Шеви-ньи (1904–1965), который заинтересовался историей Русской Америки под влиянием американского историка Э. Мини (E. Meany), и в 1937 г. опубликовал книгу «Утраченная империя», посвященную Н. П. Резанову. Позднее были изданы еще две книги Г. Ше-виньи – «Властелин Аляски» (об А. А. Баранове) [Chevigny, 1942] и «Русская Америка» [Chevigny, 1965]. В начале 1960-х гг. Г. Ше-виньи, занимавшийся сбором документальных материалов для своих книг, обрел единомышленника в лице канадского историка Р. Пирса. В течение нескольких десятилетий Пирс и его коллеги переводили на английский язык и публиковали русские источники по истории Русской Америки и освоения Северотихоокеанского региона.
Заметный вклад в изучение темы в первой половине XX в. внесли и другие американские и канадские авторы: последователь Г. Бэнкрофта и один из основоположников американского исторического «сибиреведе-ния» Ф. Голдер, основатель Калифорнийской исторической школы Р. Кернер, канадский историк С. Томпкинс и др. Особое внимание в западной историографии уделялось выяснению причин проникновения русских в Северную Америку. В начале
XX в. преобладала концепция о ведущей роли политических интересов России в регионе. Сторонниками данной концепции выступили Дж. Кэллаган [Callahan, 1901], Б. Томас [Thomas, 1930], Дж. Хильдт [Hildt, 1906], немецкие историки Г. Пильдер [Pil-der, 1914] и Г. Хайнц [Heinz, 1911].
Впоследствии наибольшее влияние приобрела концепция Р. Кернера о преимущественно торговых интересах русских промышленников, их стремлении найти новые источники пушнины и продовольствия и создать «торговую империю» в регионе. В целом Р. Кернер пытался увязать процессы освоения Дальнего Востока и Русской Америки и в качестве основной причины «русской экспансии» в Северной Америке называл потерю Россией Приамурья в конце XVII в. В разное время сторонниками концепции Р. Кернера выступали Э. Эссиг, А. Огден, Л. Блэк, Дж. Гибсон [Gibson, 1991].
Во второй половине XX в. ряд исследователей указывали на совокупность политических и торговых интересов России в Северной Америке. Так, немецкий историк Ю. Семенов главной задачей русского правительства называл защиту дальневосточных колоний, в то время как Северная Америка долгое время не представляла для России большого интереса ни в политическом, ни в экономическом отношении. Наиболее существенным фактором, сдерживавшим активность России, был страх перед возможными столкновениями с испанцами и англичанами, претендовавшими на главную роль в регионе. Однако успехи русских купцов, включившихся в тихоокеанскую пушную торговлю, открыли для России путь на Американский континент и позволили оспорить британское и испанское первенство [Semjonow, 1954].
Канадский историк Г. Баррэт также писал об излишней осторожности русского правительство в осуществлении политики на Дальнем Востоке и в Северной Америке [Barrat, 1981]. Медлительность правительства вредила развитию колоний, систему снабжения которых следовало наладить еще во второй половине XVIII в. Основное внимание в своей монографии Г. Баррэт уделил роли Адмиралтейства и военного флота, с помощью которого Россия пыталась упрочить свое положение на востоке. Со временем правительству стало ясно, что присут- ствие военных кораблей не может существенно повлиять на ситуацию, пока не будет создана соответствующая хозяйственная и военная база (в том числе предполагалось создание Тихоокеанского флота). Г. Баррэт подробно описал многочисленные правительственные планы дальнейшей колонизации Тихоокеанского региона, но далеко не все из них расценивал как осуществимые. Наиболее резкой оценки заслужил план руководителя Российско-Американской Компании Н. П. Резанова, в котором Г. Баррэт усмотрел «следы паранойи, патриотического бреда и имперских амбиций» [Barrat, 1981. P. 146].
Г. Шевиньи также уделил пристальное внимание планам Н. П. Резанова и А. А. Баранова по созданию колониальной империи в Тихом океане. В отличие от Г. Баррэта, Г. Шевиньи присоединился к мнению Н. П. Резанова об Аляске как плацдарме, позволяющем контролировать весь Тихоокеанский регион [Chevigny, 1937; 1942; 1965]. Однако рассмотрение этих планов не сопровождалось описанием правительственной политики в отношении североамериканских колоний, без чего невозможно ответить на вопрос об истинных причинах русского проникновения на континент.
В дискуссиях историков камнем преткновения стал вопрос о причинах создания Российско-Американской Компании, а точнее – о соотношении правительственной и частной инициативы в ее создании. Большинство зарубежных исследователей усвоили взгляд советского историка С. Б. Окуня на РАК как креатуру правительства, призванную действовать в его интересах и осуществлять его замыслы [Окунь, 1939; Алексеева, 1993. C. 59–63]. Так, по мнению Ю. Семенова, за решением Павла I о создании Российско-Американской Компании скрывалось не что иное, как стремление ослабить позиции Ост-Индской компании во внешнеполитической и внешнеторговой борьбе императора с Великобританией [Se-mjonow, 1954. S. 239].
Дж. Харрисон отмечал, что уже Екатерина II задумывалась о вытеснении англичан из Северотихоокеанского региона с помощью мощной торговой компании. По определению историка, Российско-Американская Компания играла в Северной Америке такую же роль, какую в свое время играли Строгановы в Приуралье [Harrison, 1971].
Вывод С. Окуня разделяли Б. Дмитри-шин, Т. Воган и Э. Краунхарт-Воган – составители трехтомного сборника документов «В Сибирь и Русскую Америку: Три столетия русской экспансии на Восток 1558–1867 гг.». С их точки зрения, правительство сделало РАК «правопреемницей своих экспансионистских устремлений»; правительство не только учредило компанию, но и снабжало, контролировало и защищало от отечественных и иностранных конкурентов, а после продажи Аляски – аннулировало ее [To Siberia and Russian America…, 1988. P. 33].
По мнению Г. Баррэта, активная роль правительства подтверждалась участием Морского министерства в управлении Российско-Американской Компанией, а также постепенным превращением компании в бюрократический орган, полностью подконтрольный правительству.
Противоположной точки зрения придерживалась профессор русской истории и глава исторического отделения в университете штата Северной Каролины М. Уилер, считавшая, что создание монополии Павлом I было лишь попыткой упорядочения и расширения деятельности промышленников, игравших ведущую роль в освоении региона [Wheeler, 1987; Алексеева, 1993. C. 59–63]. Немецкий историк А. Каппелер также полагал, что создание РАК лишь обеспечило частным предпринимателям протекцию со стороны государства, но частная инициатива купечества играла в ее деятельности ведущую роль [2000. C. 149].
В зависимости от понимания целей и вклада различных участников процесса – правительства, РАК, частных промышленников – историками оценивалась успешность хозяйственного освоения Русской Америки, а также объяснялись причины отказа России от американских колоний. В начале XX в. политическое и торговое соперничество морских держав в Тихом океане расценивалось в западной историографии как важнейший фактор, обусловивший уход России с Американского континента (Б. Томас, Дж. Хильдт, Г. Хайнц, Ф. Голдер) [Golder, 1925].
Основательное изучение вопросов истории Русской Америки началось в 1930-е гг., благодаря усилиям сотрудников Калифорнийского университета и Калифорнийского исторического общества – Р. Кернера,
Э. Эссига, А. Огден, К. Дж. Дюфура, А. Кашеварова и др. Вслед за Р. Кернером западные историки стали делать основной упор на торговых интересах России в Тихоокеанском регионе. Соответственно, присутствие России в Северной Америке ставилось в прямую зависимость от доходности пушных промыслов, успешности решения проблемы продовольственного снабжения колоний и развития торговых отношений с испанцами, англичанами и американцами.
Так, Э. Эссиг в статье «Русское поселение Росс» дал описание южного аванпоста Русской Америки, сообщил о результатах хозяйственной деятельности русских колонистов, о посещении форта мореплавателями и учеными [Essig, 1933]. Автор использовал фактический материал, содержащийся в статье сотрудника Региональной библиотеки Аляски А. Кашеварова «Форт Росс: сообщение о русском поселении» [Kasheva-roff, 1927. P. 235–242]. По словам Э. Эссига, Калифорния интересовала русских преимущественно как центр пушной торговли, а также как источник продовольствия для колоний на Камчатке и Аляске. Медленное развитие земледелия и упадок пушного промысла сделали уход русских из Калифорнии неизбежным. Данный подход отчетливо прослеживается в статье вице-президента Педагогического колледжа Сан-Франциско, профессора истории К. Дж. Дюфур «Уход России из Калифорнии», посвященной обстоятельствам продажи калифорнийских владений [DuFour, 1933].
К аналогичным выводам пришла и А. Огден, автор статьи «Русский промысел морской выдры и тюленя на Калифорнийском побережье (1803–1841 гг.)». Исследовательница повторила утверждение Р. Кернера о том, что управляющий Русской Америкой А. Баранов вынашивал планы расширения колониальных владений в Тихоокеанском регионе, втайне надеясь вытеснить американцев [Ogden, 1933. P. 29–59]. В статье А. Огден основное внимание уделяется вопросам сотрудничества русских колонистов с американскими и испанскими купцами, которое парадоксальным образом было лишь продолжением жесткой международной торговой конкуренции в регионе. В условиях сокращения популяции каланов и роста конкуренции уход русских становился делом времени.
В монографии С. Томпкинса «Аляска: промышленник и первый поселенец» воспроизводились выводы калифорнийских историков о торговых интересах России на Дальнем Востоке и в Северной Америке, а также о столкновениях интересов колониальных держав в Тихом океане, что фактически обрекало русские колонии на незавидное существование и предопределило поспешный уход из региона [Tompkins, 1945. P. 45–49, 17–148].
В отличие от утвердившегося в западной историографии взгляда на освоение русскими Северной Америки как предприятие, с самого начала обреченное на провал, Ю. Семенов указал на достижения А. Баранова, обеспечившего Российско-Американской Компании сверхприбыли. В целом, русское правительство поступало достаточно мудро, позволяя колониям самостоятельно вести торговлю с соседями. По заключению Ю. Семенова, это объясняет, почему России удалось в течение долгого времени сохранить свои американские владения, тогда как Англия и Испания их утратили [Semjonow, 1954. S. 267]. Непосредственной причиной отказа России от американских владений Ю. Семенов вслед за Р. Кернером также считал возвращение Приамурья, о котором русское правительство никогда не забывало. По мнению немецкого историка, содержание североамериканских колоний стало слишком обременительным, и лишь тогда уход русских из Америки стал неизбежным.
В англоязычной историографии концепция Р. Кернера о ведущей роли хозяйственных и торговых факторов в истории Русской Америки подверглась пересмотру в 1970– 1980-х гг. В частности, о ведущей роли политических факторов писали Дж. Харрисон, О. Руденко, Г. Баррэт. Обращаясь к вопросу о транспортных и продовольственных проблемах, с которыми столкнулись русские колонисты в Америке, Дж. Харрисон дополнил их рассмотрение выводом о смене колониальной политики правительства, осознавшего, что интересы России лежали на азиатском континенте, а освоение Аляски было не столь насущным, как освоение Восточной Сибири [Harrison, 1971. P. 110–128].
По мнению О. Руденко, встретившись со множеством трудностей и заключив в 1824– 1825 гг. договоры с Великобританией и США, позволившие судам этих стран заходить в российские порты и торговать с рус- скими колониями в Северной Америке, Россия признала неизбежность своего скорого ухода из региона и переключила основное внимание на Приамурье [Rudenko, 1976. P. 53]. Г. Баррэт отнюдь не считал русскую колонизацию Северной Америки заведомо обреченной на неудачу, но указывал на ошибки в правительственной политике как причину упадка в русских колониях.
Своеобразную эволюция во взглядах на историю Русской Америки и причины отказа России от американских владений проделал в 1960–1990-х гг. канадский историк Дж. Гибсон. Не отвергая основные положения концепции Р. Кернера, в конце 1960-х гг. он сосредоточил свое внимание на объяснении причин ухода России из Северной Америки, действительно, во многом вызванного трудностями хозяйственного освоения, снижением доходов от пушной торговли, транспортными проблемами и вынужденной конкуренцией с колониями других держав.
Однако основными причинами хозяйственного упадка в Русской Америке Гибсон называл, во-первых, вовлеченность правительства в европейские дела, что неизбежно препятствовало своевременно решению проблем на окраинах империи, а во-вторых – «континентальный характер» русской колониальный политики [Gibson, 1976. P. 32–34]. Таким образом, в работах названного автора, написанных в 1970-е гг., все большее значение придавалось политической составляющей «русской колониальной экспансии», что служило необходимым дополнением анализа социально-экономического развития Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки.
В конце 1980-х гг. Дж. Гибсон вновь обратился к теме освоения русскими Северной Америки. В своей статье «Царская Россия в колониальной Америке» он также пришел к выводу об ошибочности царской политики в отношении Русской Америки. При этом он основывался на свидетельствах иностранцев, посетивших в свое время русские колонии и отметивших неразумность управления, низкий уровень жизни, хозяйственный упадок в русских поселениях. Названный автор писал: «Россия всегда была отсталой страной. Можно себе представить отсталость самой отдаленной из ее колоний» [Gibson, 1991. P. 104].
В основе завершающего этапа «русской восточной экспансии» Гибсон видел теперь исключительно погоню за пушниной, а потерю Русской Америки считал прямым следствием упадка пушного промысла и жесткой торговой конкуренции с американцами и англичанами. По его утверждению, Россия не являлась сильнейшей морской державой и была обречена на поражение, хотя и приняла участие в хозяйственном освоении Северотихоокеанского региона раньше остальных [Ibid. P. 109].
Данный вывод существенно отличался от прежних представлений исследователя, считавшего Россию могущественным соперником колониальных держав в Тихом океане. Эволюцию взглядов историка отчасти можно объяснить изменением международной ситуации в 1990-х гг. В условиях, когда Россия утратила контроль над территориями, традиционно входившими в сферу ее влияния, потребовалась переоценка всего исторического прошлого страны, в первую очередь, истории ее территориальной экспансии.
Большинство англо-американских исследователей по-прежнему не видит принципиального различия между североазиатскими и североамериканскими владениями России. Так, британский историк А. Вуд в одной из своих работ дал определение сибирской колонии как всей территории от Западной Сибири до Аляски включительно [The History of Siberia…, 1991. P. 1]. Тем самым зарубежные историки косвенно подтверждали вывод советских исследователей о том, что Русская Америка возникла как следствие великих русских географических открытий на востоке Азии и в северной части Тихого океана и была «логическим продолжением и завершением походов русских землепроходцев и мореходов» [Алексеев, 1982; Чер-навская, 2003. C. 15 ].
Впервые в западной историографии против такого подхода выступил Р. Фишер. В рецензии на сборник статей «История Сибири: от русского завоевания до революции», подготовленный к печати А. Вудом, Р. Фишер выразил несогласие с включением в сборник статьи Дж. Гибсона, посвященной истории Русской Америки. Возражения Р. Фишера также вызвало замечание А. Вуда о Русской Америке как одной из «сибирских колоний». По мнению Р. Фишера, для Русской Америки были характерны особая система управления, большее число контактов с внешним миром, как и столкновений с аборигенами. «Будь Русская Америка неотъемлемой частью Сибири, – задается вопросом Р. Фишер, – продала бы Россия ее Соединенным Штатам?» [Fisher, 1991].
Действительно, история Русской Америки – отдельная страница в истории русской колонизации, и ее историческая судьба напрямую не зависела от успешности освоения Сибири. Однако само проникновение русских в Северную Америку едва ли было возможно, не создай Россия прочный плацдарм на североазиатском побережье Тихого океана. Соответственно, колонизация американских территорий во многом осуществлялась теми же методами, что и освоение Дальнего Востока и Северотихоокеанского региона 1. Следует присоединиться к мнению участников международной научной конференции «Русская Америка и Дальний Восток», состоявшейся во Владивостоке в 1999 г., о взаимообусловленности процессов заселения русскими дальневосточных территорий и освоения тихоокеанского побережья Северной Америки [Русская Америка…, 2001].
Особое внимание западные исследователи уделяли взаимоотношениям между пришлым и коренным населением Русской Америки. Положительные и отрицательные последствия этих контактов также рассматривались историками как факторы, способствовавшие или препятствовавшие сохранению Россией своих позиций на Американском континенте. О позитивных аспектах взаимодействия русского и коренного населения Аляски писали Б. Смит и Р. Барнетт, отмечавшие, что «сравнительно с другими колонизаторами Северной Америки русские отличались значительно более гуманным отношением к коренным жителям», предоставляли туземцам получить образование и медицинскую помощь [Russian America…, 1990. P. 14–15].
Однако в основном западные исследователи приходили к заключению о негативных последствиях русской колонизации для коренного населения Северной Америки. Так, профессор Орегонского университета
Д. Е. Дюмонд, основываясь на работах К. Арндта и Дж. Гибсона, писал о том, что русские врачи, проводившие вакцинацию от оспы в 1830-х гг., невольно содействовали распространению болезни в результате случайного заражения путем прививок [Русская Америка…, 2001. C. 5].
В свою очередь, профессор университета Аляски Л. Блэк, основываясь на архивных материалах из коллекций Г. Юдина и Ф. Голдера, а также на источниках и монографиях, опубликованных Р. Пирсом 2, рассматривала историю взаимоотношений коренного и пришлого населения на о. Кадьяк как историю военного конфликта, продиктованного стремлением Г. Шелихова «утвердиться в самом заселенном районе Аляски, который тогда был известен России». С точки зрения исследовательницы, «с самого начала Ше-лихов планировал применить силу и имел намерение использовать ресурсы региона, как природные, так и человеческие, в своих экспансионистских целях».
По мнению Л. Блэк, продолжателем политики Шелихова в регионе стал А. Баранов [Блэк, 2001. C. 104–132]. Впрочем, в своем новейшем обобщающем исследовании по истории Русской Америки названная исследовательница дала преимущественно положительную оценку политики России в отношении коренных жителей Аляски, отмечая усилия русских по развитию системы здравоохранения и образования, распространявшуюся и на аборигенное население; их посредническую миссию в межплеменных переговорах и пр. О сопротивлении коренного населения Аляски писали А. Каппе-лер, Дж. Гибсон. По мнению Дж. Гибсона, невозможность обеспечить поддержку местного населения, в конечном счете, стала одной из причин ухода русских из Америки [Gibson, 1979].
Таким образом, проблемы истории Русской Америки рассматривались западными авторами в зависимости от понимания ими общего процесса «русской восточной экспансии». Большинство исследователей полагали, что главными причинами проникновения русских в Северную Америку, а впоследствии – отказа от американских вла- дений, стал поиск источников пушнины и продовольствия (Р. Кернер, Э. Эссиг, А. Огден, Дж. Гибсон, С. Томпкинс, Ю. Семенов). С возвращением Приамурья содержание американских колоний стало обременительным и экономически не оправданным. Многие исследователи отмечали негативные последствия русской колонизации для коренного населения Северной Америки, сопротивление которого также способствовало утрате Россией своих колоний.
На большое значение в истории Русской Америки фактора международных отношений, конкуренции между колониальными державами указывали Ф. Голдер, Дж. Гибсон, К. Дж. Дюфур, Г. Баррэт, Л. Блэк. Многие западные исследователи (Ю. Семенов, Дж. Харрисон, Б. Дмитришин, Т. Вогэн, Г. Баррэт и др.) усвоили вывод советского историка С. Окуня о том, что Российско-Американская Компания была создана русским правительством также для решения политических задач имперской экспансии. В то же время в англо- и германоязычной историографии не существовало некоей единой, доминирующей концепции освоения русскими Дальнего Востока, Тихоокеанского региона и Северной Америки.
PROBLEMS OF THE HISTORY OF RUSSIAN AMERICA IN THE WESTERN HISTORIOGRAPHY