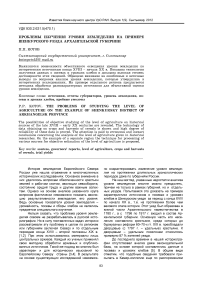Проблемы изучения уровня земледелия на примере Шенкурского уезда Архангельской губернии
Автор: Котов П.П.
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Рубрика: Историко-филологические науки
Статья в выпуске: 1 (9), 2012 года.
Бесплатный доступ
Выявляются возможности объективного освещения уровня земледелия по историческим источникам конца XVIII - начала XX в. Показана технология получения данных о посевах и урожаях хлебов и доказана высокая степень достоверности этих сведений. Обращено внимание на ошибочные и неточные выводы по вопросам анализа уровня земледелия, которые утвердились в исторических исследованиях. На примере отдельного региона предлагается методика обработки разнохарактерных источников для объективной оценки уровня земледелия.
Источники, отчеты губернаторов, уровень земледелия, посевы и урожаи хлебов, пробные умолоты
Короткий адрес: https://sciup.org/14992516
IDR: 14992516 | УДК: 930.2:631.5(470.1)
Текст научной статьи Проблемы изучения уровня земледелия на примере Шенкурского уезда Архангельской губернии
История земледелия Европейского Севера России уже нашла отражение в многочисленных исторических исследованиях. Основное внимание в них уделялось вопросам обеспеченности крестьян землей и рабочим скотом, эволюции севооборота, состоянию орудий труда и другим важным аспектам. Однако на основе анализа указанного круга вопросов фактически невозможно показать эволюцию результативности земледелия, его уровня. Ведь основные показатели уровня земледелия – урожайность, посевы и сборы хлебов не являлись предметом специального изучения.
Нельзя сказать, что проблема уровня земледелия совсем не разрабатывалась в русской историографии. Но в силу поставленных задач историки рассматривали эту проблему в целом по регионам или губерниям (включая Север) и по отдельным периодам конца XVIII – второй половины XIX в. [1,2]. При этом использовались материалы лишь центральных архивов. Каждый из ученых применял свою методику обработки архивных и опубликованных источников. Такой же подход во многом был характерен и для исторических изысканий по Европейскому Северу страны [3,4]. В результате на основе существующих исследований невозмож- но охарактеризовать изменение уровня земледелия на протяжении длительных хронологических периодов даже по губерниям России.
На наш взгляд, указанные недостатки анализа уровня земледелия вполне можно преодолеть, причем не только в рамках губерний, но и отдельных уездов. Попытаемся это доказать на примере характеристики источников о посевах и урожаях хлебов в Шенкурском уезде за период с конца XVIII по начало XX в., т.е. на протяжении более чем векового этапа истории. Этот уезд был образован в южной части Архангельского наместничества в 1780 г., а с 1796 по 1917 г. входил в состав Архангельской губернии. Основную часть его населения составляли крестьяне, среди которых до буржуазных реформ 60–70-х гг. XIX в. преобладали дворцовые (с 1797 г. – удельные) крестьяне. К дворцовым – удельным поселянам относилось примерно 87 % жителей уезда.
До последнего времени в нашей историографии отсутствовал анализ даже законодательной базы, на основе которой составлялись данные о посевах и урожаях хлебов [5]. В общем виде отметим, что подобные сведения требовали присылать в Камер-коллегию еще по распоряжениям
Петра I. В дальнейшем указы Елизаветы I ввели уже единую форму отчетности о посевах и урожаях хлебов, а законы Екатерины II – единообразную табличную форму «хлебной отчетности». Во всех случаях изменялись сроки и учреждения, в которые следовало высылать эти сведения. В начале XIX в. по всем губерниям России стали составляться «Всеподданейшие отчеты», в которых наряду с многочисленными и разнообразными сведениями фиксировались и данные о посевах и урожаях хлебов. Из самостоятельного документа сведения «хлебной отчетности» превратились в элемент комплексных губернаторских отчетов. В 1837, 1842 и 1870 гг. изменялись формы представляемых данных о посевах и урожаях хлебов [5]. На основе законов в XVIII в. фиксировались сведения о посевах, валовых и чистых сборах каждой из высеваемых культур по уездам, провинциям и губерниям (нередко – по волостям и селениям). С 90-х гг. XVIII в. подобные сведения представлялись по уездам и губерниям, но не по каждой из зерновых культур, а суммарно по озимым и яровым хлебам. Такие же данные, но только в целом по губерниям, требовались с 1837 г. Затем, с 1842 по 1869 г., в отчетах губернаторов следовало выводить показатели о посевах, валовых сборах и урожайности озимых, яровых и картофеля по сословным группам населения и категориям крестьян опять же в целом по губерниям. Начиная с 1870 г. документы содержали данные о посевах и сборах каждой из земледельческих культур по сословным группам населения в рамках уездов.
Непосредственно сами сведения «хлебной отчетности» отложились: по XVIII в. – в Российском государственном архиве древних актов ( РГАДА. Ф. 263 – Пятый департамент Сената; Ф. 1239 – Московский дворцовый архив) и по XIX -- началу XX в. – в Российском государственном историческом архиве (РГИА. Ф. 1263 – Комитет министров; Ф. 1276 – Совет министров внутренних дел; Ф. 1281 – Канцелярия министерства внутренних дел; Ф. 1287 – Хозяйственный департамент МВД; Ф. 1409 – Собственная его императорского величества канцелярия). Однако за некоторые годы отчеты о посевах и урожаях хлебов в них отсутствуют, вероятно, в течение времени они были утрачены.
С другой стороны, с 1837 по 1869 г. по Шенкурскому уезду (как и по другим уездам) данные о посевах и урожаях хлебов, в силу требований законов, изначально в губернаторских отчетах не фиксировались. В этой связи, особое значение приобретают источники местных архивов и фондов ряда учреждений центральных архивов. В них отложились многие документы, представляющие из себя подготовительные материалы к отчетам о посевах и урожаях хлебов, «первичные» данные, черновые варианты и копии самих отчетов (например: РГИА. Ф. 515 – Департамент уделов). За счет материалов Государственного архива Архангельской области (ГААО. Ф. 1, 2, 4, 6, 51, 53) удалось восстановить за 48 лет данные о посевах и урожаях хлебов в Шенкурском уезде, которые отсутствуют в центральных архивах. Эти же материалы существенно воспол- нили сведения «хлебной отчетности» и по удельной деревне уезда. В фондах всех архивов были выявлены данные о посевах и урожаях хлебов в Шенкурском уезде за 9 лет XVIII в. и за период с 1801 по 1904 г. Стало возможным воспроизведение показателей посевов и урожаев за 1784–1785, 1792–1795 и 1800–1868 гг. по удельной деревне уезда. За ряд лет такие данные обнаружены по отдельным волостям и селениям государственной деревни и по г. Шенкурск (нередко по каждой из выращиваемых хлебных культур).
Именно подготовительные материалы позволяют существенно уточнить процедуру составления отчетов о посевах и урожаях хлебов и содержат новые факты о степени объективности этих сведений. В общем виде схема составления «хлебной отчетности» заключалась в следующем: вначале показатели посевов и урожаев хлебов определялись по селениям, затем выводились по волостям и далее – по уездам и губерниям. На низовом уровне (в селениях и волостях) эти сведения представляли органы крестьянского самоуправления, все остальное лежало на обязанности удельных, уездных и губернских чиновников.
Процедура сбора первичных сведений о посевах и урожаях хлебов на низовом, сельском уровне ни в одном из законодательных актов не регламентировалась. На наш взгляд, она сформировалась и прочно укрепилась в крестьянской среде в силу хозяйственных потребностей еще до появления «хлебной отчетности». Во всяком случае, и законодатель, и исполнители (включая крестьян), начиная с XVIII в., рассматривали эту процедуру как обыденную и не представляющую сложности. По архивным источникам видно, что посевы хлебов определялись довольно точно. К осени, к моменту составления отчетов, затраты зерна на семена были известны каждому из крестьян и сельским старостам. Эти затраты, учитывая нормы высева зерна на единицу запашки, можно было легко проверить и уточнить.
Данные о сборах хлебов определялись в России по так называемым пробным умолотам. Это была вынужденная мера, так как хлеб крестьяне обмолачивали не сразу после жатвы, а постепенно – в течение зимы и весны. Проведение пробных умолотов производилось в следующем порядке: в селениях выбиралось несколько участков «худой» и «доброй» по качеству пашни, с которых зерновые убирали и обмолачивали. Затем, по мнению И.Д.Ко-вальченко, подсчитывали средний показатель сбора хлебов с единицы запашки, перемножали его на количество засеянных десятин и получали искомые размеры валовых сборов [1, с. 54–58].
Вероятно, такая методика проведения пробных умолотов практиковалась в южных и центральных регионах России. Однако в Шенкурском уезде, как и в других уездах Европейского Севера страны, ее буквальное применение было невозможно в связи с отсутствием достаточно точных данных о размерах пашенных угодий. Здесь при составлении отчетов о посевах и урожаях хлебов в графе о площади запашки писали: «По неизмерению пока- зать немочно» или «размеру земель в десятины никогда не бывало и затем показать неможно». Поэтому на выбранных участках «плохой» и «доброй» земли учитывали не только обмолоченное зерно, но и количество сжатых на них снопов, скирд и копен хлебов. Далее фиксировали, сколько зерна в среднем вымолачивалось из снопа, скирды или копны. Следует учитывать, что число снопов в скирдах и количество скирд в копнах было примерно одинаково. Зная общее количество сжатых скирд и копен не сложно было подсчитать и валовые урожаи хлебов. Вероятно, И.Д. Ковальченко все-таки ошибался и в отношении других регионов России. Так, в указе от 29 ноября 1799 г. отмечено, что губернаторы «…по учиненному обмолочением нескольких снопов опыту…» должны представить сведения [6, т. XXV, с. 898].
С другой стороны, на Севере практиковали опыт, когда участки для пробных умолотов определяли еще при севе и учитывали количество посеянного на них зерна. Осенью после обмолота хлеба высчитывали среднюю урожайность в «самах» и полученный показатель перемножали на общее количество посеянного хлеба. Окончательно этот способ определения валовых сборов хлебов устанавливается на Европейском Севере России в первой трети XIX в. Заметим, что описанные способы определения сборов хлебов часто сочетались для взаимной проверки полученных данных.
Сама процедура пробных умолотов осуществлялась при понятых и подразумевала возможности проверки выводимых показателей. Кроме этого, проводились еще и контрольные пробные умолоты по волостям специально командированными уездными чиновниками в присутствии сельских и волостных начальников и выбранных из крестьян свидетелей [7, с. 26–31].
По нашему мнению, источники, условно объединенные как губернаторские отчеты, обладали высокой степенью объективности в отношении данных о посевах и урожаях хлебов. В этом можно убедиться на примере материалов об общественной запашке в удельной деревне Шенкурского уезда. Под нее в 1828–1829 гг. была выделена часть крестьянской пашни. Получаемое зерно складировалось в так называемые сельские запасные хлебные магазины (на случай неурожая). Первоначально урожайность хлебов на общественной запашке не отличалась от урожайности на крестьянских полях. В 1834 г. удел ввел «минимум урожайности для полей общественной запашки». Этот «минимум» для Шенкурского уезда был установлен в озимом клине – «сам 3», в яровом – «сам 2». Все зерно сверх этого «минимума» продавалось, а деньги распределялись между удельными чиновниками. Поэтому с 1835 г. убранный с общественной запашки хлеб тщательно измеряли (вплоть до гарнцев и фунтов) в течение зимы – начала весны. Сведения о реальных сборах хлебов поступали в Департамент уделов, который контролировал правильность распределения между чиновниками денежных средств, выручаемых от продажи зерна «сверх установленного минимума» [8].
С другой стороны, как и раньше, в удельное ведомство и губернские органы власти осенью высылались данные о посевах и урожаях хлебов как на крестьянских, так и на общественных полях. В этом случае сведения о валовых сборах определялись по пробным умолотам. В результате за 1835–1858 гг. можно сравнить данные о пробных и действительных умолотах зерновых на общественной запашке Шенкурского уезда. Данные пробных умолотов относительно реальных чаще занижались, но иногда были и выше. Они по отношению к действительным умолотам колебались в крайних точках по озимым от –7,1 % (1843 г.) до +8,2 % (1835 г.), по яровым – от –6,3 % (1843 г.) до +0,6 % (1848 г.). Разница между данными об урожаях хлебов по пробным и действительным умолотам существенно сглаживается, если оперировать не годовыми, а средними показателями за 8–10 лет, как это и принято в исторических исследованиях. В среднем по 8-летним периодам за 1835–1858 гг. отличия между пробными и действительными умолотами на общественной запашке Шенкурского уезда составляли в озимом поле от –2,0 до +0,8 % и в яровом поле – от –2,5 до –3,6 %. Схожие характеристики наблюдались и по общественной запашке Вологодской, Вятской и Пермской губерний [8]. Подчеркнем еще раз – пробные умолоты и на общественной запашке, и на крестьянских полях проводились одновременно, по одинаковой процедуре и теми же людьми. Поэтому и данные губернаторских отчетов о посевах и урожаях хлебов на полях всего Шенкурского уезда, выведенные по 8– 10-летним периодам, обладают достаточной степенью объективности. В пользу этого вывода можно привести еще одно свидетельство.
С 1883 г. данные о хлебной статистике стал собирать Центральный статистический комитет МВД России (далее – ЦСК). Методика сбора первичных сведений о посевах и урожаях хлебов по линии ЦСК в течение первого десятилетия неоднократно изменялась. Окончательно она была отработана к 1893 –1894 гг., после чего практиковалась до 1915 г. По линии ЦСК сведения собирались по следующей схеме: вначале по всем уездам учитывалась площадь запашки каждой из возделываемых земледельческих культур. Затем высылалось несколько видов анкет, которые заполнялись, как правило, по шести разным хозяйствам каждой волости. Весной – в начале лета в анкетах хозяева фиксировали количество семян, которое было использовано на 1 десятину запашки каждой из культур. В конце лета отмечались объемы зерна и соломы, которые собирались с 1 десятины озимого клина, а осенью такие же сведения подавались о картофеле, яровых, технических и других выращиваемых культурах. Во всех случаях сообщалось о весе четверти в пудах, урожайности хлебов в «самах» и некоторая другая информация. Эти сведения поступали в ЦСК, обрабатывались и публиковались в специальных ежегодниках вплоть до 1916 г. После 1892 г. в них по всем уездам и губерниям страны сообщались данные о площади запашки, посевах, сборах, уро- жайности, весе в пудах каждой из земледельческих культур и некоторые другие сведения [9].
Информативно эти материалы были значительно разнообразней, чем данные губернаторских отчетов, и позволяют, например, проследить эволюцию структуры запашки в Шенкурском уезде на рубеже XIX–XX вв. Они свидетельствуют, что в среднем по периодам 1893–1915 гг. продуктовые культуры стабильно занимали не менее 95 % всей запашки Шенкурского уезда. В эти годы явно просматривается тенденция сокращения запашки овса, яровой пшеницы и технических культур. Доля картофеля в посевном клине, напротив, увеличивалась. Посевные площади основных зерновых – ржи и ячменя – колебались, составляя, соответственно от 40,7 до 42,5 % и от 30,3 до 32,2 % всей запашки по Шенкурскому уезду. Отметим, что в уезде на рубеже XIX–XX вв. не было классического трехполья, при котором озимые, яровые и пар занимали примерно одинаковую площадь земли [9].
Материалы ЦСК позволяют охарактеризовать и ряд других важных сторон земледельческого производства в Шенкурском уезде. Так, они показывают, что в среднем по периодам за 1893–1915 гг. посевы ржи на 1 десятину запашки составляли от 1,13 до 1,18 четверти, ячменя – от 1,67 до 2,00 и овса – от 2,27 до 2,41 четверти. Такие колебания расходов семян свидетельствуют о неустойчивости зернового производства в уезде, прежде всего, в связи с суровыми природно-климатическими условиями. Об этом же говорят и колебания чистых сборов основных зерновых культур в указанные годы. И все же, население уезда получало довольно качественное зерно. Это доказывается тем, что вес четверти зерновых в среднем по периодам за 1893 –1915 гг. имел относительно небольшие отклонения. Он составлял: ржи – от 8,0 до 8,1 пуда, ячменя – от 6,8 до 7,0 и овса – от 5,3 до 5,6 пуда. Еще более устойчивым был вес четверти картофеля – от 8,5 до 8,6 пуда. Кроме того, его чистые сборы с 1 десятины пашни стабильно увеличивались с 34,5 четвертей до 45,7 т.е. для выращивания этой культуры условия в уезде были вполне благоприятными [9].
По мнению большинства историков, материалы ЦСК более объективно, чем губернаторские отчеты, отражали состояние посевов и урожаев хлебов. В этой связи материалы ЦСК важны не только для восполнения данных об урожаях хлебов за 1893–1915 гг., но и для уточнения уровня ошибочности сведений губернаторских отчетов. Соотношение данных о посевах и урожаях хлебов в Шенкурском уезде за 1894 –1903 гг. по двум названным комплексам источников приведено в табл. 1. Заметим, что расхождения основных показателей уровня земледелия, выведенных по Шенкурскому уезду за 1894 –1903 гг. на основе материалов ЦСК и губернаторских отчетов, не были очень большими. Среди зерновых они наиболее заметны по озимой ржи и ячменю. При этом посевы и валовые сборы последнего по материалам губернаторских отчетов были выше, чем по данным ЦСК (табл. 1).
Полученные в табл.1 цифровые соотношения показателей уровня земледелия принимаются в качестве коэффициентов поправки для данных губернаторских отчетов по соответствующим культурам и хлебам в целом. В этом случае сведения разнохарактерных источников (ЦСК и губернаторских отчетов) о посевах и урожаях хлебов будут переведены на единую основу.
Таблица 1
Соотношение основных показателей уровня земледелия по материалам ЦСК и губернаторских отчетов в Шенкурском уезде за 1894–1903 гг.*
|
Показатели |
Озимая рожь |
Ячмень |
Овес |
Итого яровые |
Всего зерновые |
Картофель |
|
Посев |
1,092 |
0,926 |
1,063 |
1,010 |
1,034 |
1,188 |
|
Сбор |
1,158 |
0,926 |
1,069 |
0,997 |
1,049 |
1,006 |
|
Урожай |
1,060 |
0,996 |
1,005 |
0,987 |
1,015 |
0,847 |
*Примечание. 1. Источники: РГИА. Ф. 1263. Оп. 1, 2. Д. 5006–5715 (Журнальные статьи «Архангельская губерния»); Урожай {1894–1903} года. СПб., {1895–1904}; 2. Данные ЦСК приняты за «1»; 3. Все исходные данные о посевах и валовых сборах хлебов определялись в четвертях, урожайность – в «самах».
Дальнейшая методика работы с «хлебной отчетностью» предполагает обобщение данных и их математическую обработку. В качестве примера изберем сведения о посевах и урожаях хлебов в целом по Шенкурскому уезду. Основные показатели уровня земледелия подсчитываются, когда это возможно, в среднем по десятилетним и более крупным хронологическим отрезкам. При этом показатели посевов и чистых сборов хлебов выводятся в четвертях на одного жителя уезда. Численность жителей определяется по данным IV–X ревизий, отчетам губернаторов и материалам ЦСК. В этом случае учитываются сведения Первой Всеобщей переписи населения 1897 г., а также вводится коэффициент поправки для данных ЦСК и губернаторских отчетов о численности населения.
Определение душевых посевов и чистых сборов хлебов более наглядно иллюстрирует эволюцию уровня земледелия, чем простая фиксация общих посевов и сборов зерновых. Так, данные табл. 2 показывают, что в конце XVIII – первой трети XIX в. посевы озимых в Шенкурском уезде были относительно стабильны и составляли в среднем по десятилетиям 0,14–0,15 четверти на душу. Душевые посевы яровых, напротив, начинали снижаться с 0,32 четверти в 1792–1799 гг. до 0,29 четверти в 1811–1820 и 1821–1830 гг. В удельной деревне, которая и определяла земледельческое производство в Шенкурском уезде, начинается «политика попечительства». В частности, в рамках этой политики удельным крестьянам существенно была ограничена возможность для занятий неземледельческими промыслами. С другой стороны, крестьян принуждали усиливать внимание к земле- делию. В результате в 1841–1850 гг. посевы зерновых в Шенкурском уезде увеличились. Однако, как только в 50-х гг. XIX в. «политика попечительства» пошла на спад, сразу снизились и душевые посевы хлебов – до уровня первой трети столетия. В 1860-х гг. вновь наметился подъем посевов зерновых (табл. 2). На наш взгляд, связано это было с проведением реформы удельной деревни, в ходе которой крестьянам не на много, но увеличили пашенные наделы. В то же время произошла заметная отрезка сенокосных угодий, и крестьянам ограничили свободу лесопользования [10].
После реформы 1863 г. основная часть населения Шенкурского уезда вынуждена была расширять пашенное хозяйство. В 1871–1890 гг. посевы зерновых в уезде увеличились до 0,54 четверти. И далее начинают действовать два фактора. Во-первых, население исчерпало ресурсы свободных пашенных угодий, во-вторых, в начале 90-х гг. XIX в. была построена железная дорога Москва– Вологда–Архангельск. Последнее обстоятельство обусловило то, что население Шенкурского уезда начинает довольно быстро увеличиваться, а с другой стороны – на Север стал поступать дешевый хлеб из других регионов России. Поэтому в 1901–1910 гг. посевы зерновых уменьшаются до 0,46 четверти на человека и в 1911–1915 гг. – уже до 0,40 четверти (табл. 2).
Урожайность зерновых в табл. 2 определяется в «самах», так было принято до начала XX в. Напомним, что источники позволяют подсчитать урожаи хлебов в расчете на единицу запашки только за 1893 –1915 гг. В рассматриваемые годы урожайность зерновых хлебов в Шенкурском уезде имела явную тенденцию к уменьшению (табл. 2). Если в среднем за 1801–1830 гг. она составляла по
Таблица 2
Показатели уровня производства зерновых в Шенкурском уезде Архангельской губернии в 1784–1915 гг.*
|
Годы |
Данные, лет |
Посев, четвертей на душу |
Урожайность, «сам» |
Чистый сбор, четвертей на душу |
Обеспеченность, % |
||||||||
|
Озимые |
Яровые |
Итого |
Озимые |
Яровые |
Итого |
Озимые |
Яровые |
Итого |
Озимые |
Яровые |
Итого |
||
|
1784–1785 |
2 |
0,17 |
0,38 |
0,56 |
4,3 |
3,4 |
3,7 |
0,57 |
0,93 |
1,50 |
38,3 |
61,8 |
50,0 |
|
1792–1799 |
7 |
0,15 |
0,32 |
0,47 |
5,8 |
4,3 |
4,7 |
0,72 |
1,04 |
1,76 |
47,8 |
69,3 |
58,6 |
|
1801–1810 |
10 |
0,14 |
0,31 |
0,46 |
4,0 |
3,5 |
3,7 |
0,44 |
0,78 |
1,22 |
29,0 |
52,0 |
40,5 |
|
1811–1820 |
10 |
0,14 |
0,29 |
0,44 |
4,4 |
3,9 |
4,0 |
0,48 |
0,84 |
1,32 |
32,0 |
56,3 |
44,1 |
|
1821–1830 |
10 |
0,15 |
0,29 |
0,44 |
4,9 |
3,9 |
4,2 |
0,59 |
0,84 |
1,43 |
39,3 |
55,9 |
47,6 |
|
1801–1830 |
30 |
0,15 |
0,30 |
0,44 |
4,5 |
3,8 |
4,0 |
0,50 |
0,82 |
1,32 |
33,6 |
54,8 |
44,2 |
|
1831–1840 |
10 |
0,16 |
0,29 |
0,44 |
3,8 |
3,1 |
3,3 |
0,44 |
0,60 |
1,04 |
29,5 |
39,8 |
34,7 |
|
1841–1850 |
10 |
0,18 |
0,33 |
0,51 |
4,2 |
3,9 |
4,0 |
0,58 |
0,97 |
1,55 |
38,3 |
64,8 |
51,6 |
|
1851–1860 |
10 |
0,17 |
0,28 |
0,45 |
4,5 |
3,3 |
3,7 |
0,59 |
0,64 |
1,23 |
39,2 |
42,7 |
40,9 |
|
1831–1860 |
30 |
0,17 |
0,30 |
0,47 |
4,2 |
3,5 |
3,7 |
0,54 |
0,74 |
1,27 |
35,8 |
49,0 |
42,4 |
|
1861–1870 |
10 |
0,17 |
0,31 |
0,48 |
3,9 |
3,0 |
3,3 |
0,49 |
0,63 |
1,11 |
32,3 |
41,8 |
37,1 |
|
1841–1870 |
30 |
0,17 |
0,31 |
0,48 |
4,2 |
3,4 |
3,7 |
0,55 |
0,74 |
1,29 |
36,5 |
49,2 |
42,9 |
|
1871–1880 |
10 |
0,17 |
0,37 |
0,54 |
4,0 |
3,3 |
3,6 |
0,52 |
0,86 |
1,38 |
34,8 |
57,4 |
46,1 |
|
1881–1890 |
10 |
0,18 |
0,36 |
0,54 |
4,5 |
3,6 |
3,9 |
0,63 |
0,93 |
1,56 |
42,0 |
62,0 |
52,0 |
|
1891–1900 |
10 |
0,16 |
0,36 |
0,52 |
4,3 |
3,4 |
3,7 |
0,54 |
0,85 |
1,39 |
35,9 |
56,6 |
46,3 |
|
1871–1900 |
30 |
0,17 |
0,36 |
0,53 |
4,3 |
3,4 |
3,7 |
0,56 |
0,88 |
1,44 |
37,6 |
58,6 |
48,1 |
|
1901–1910 |
10 |
0,13 |
0,32 |
0,46 |
3,9 |
3,3 |
3,5 |
0,37 |
0,74 |
1,12 |
25,7 |
49,1 |
37,4 |
|
1911–1915 |
5 |
0,13 |
0,28 |
0,40 |
4,5 |
3,5 |
3,8 |
0,44 |
0,69 |
1,13 |
29,1 |
46,1 |
37,6 |
|
1901–1915 |
15 |
0,13 |
0,31 |
0,44 |
4,1 |
3,4 |
3,6 |
0,40 |
0,72 |
1,12 |
26,9 |
48,0 |
37,5 |
*Примечание. 1. Источники: ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Т. 6. Д. 10963, 11362, 11962, 12304; Оп. 2. Т. 1, Д. 27, 290, 573, 649, 758, 819, 896; Оп. 3. Д. 110, 203, 277, 279, 401, 741, 1110, 1442; Оп. 4. Т. 5а. Д. 109, 123, 139, 157, 203, 204; Оп. 8. Т. 2. Д. 61, 64, 310; Оп. 9. Д. 271; Оп. 11. Д. 367, 410; Ф. 2. Оп. 1. Д. 1200, 2053; Оп. 2. Д. 43; Ф. 4. Оп. 7. Д. 56; Оп. 9. Д. 19, 33, 52, 66, 81, 88; Ф. 6. Оп. 2. Д. 6, 7; Оп. 3. Т. 1. Д. 1–4; Ф. 53. Оп. 1. Т. 1, Д. 707, 797; Оп. 1. Т. 2. Д. 35, 62, 113, 172, 184, 202, 214, 228, 245, 259, 273, 288, 310, 327, 334, 342, 350, 355, 360, 368, 384, 402, 402в, 577б, 629, 690; РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 111. Д. 59129, 59243; РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 39–70; Оп. 5. Д. 83–84; Оп. 10. Д. 55–113; Оп. 12. Д. 415–2074; Оп. 15. Д. 616–2287; Оп. 16. Д. 9, 12; Ф. 1263. Оп. 1–2. Д. 1254–5749 (Журнальные статьи «Архангельская губерния»); Ф. 1276. Оп. 17. Д. 1б ( Журнальная статья 2); Ф. 1281. Оп. 1. Д. 1–3; Оп. 11. Д. 5; Урожай {1901–1915} года. СПб., {1902–1916}; 2. Нет сведений за 1797 г.; 3. Показатели обеспеченности в % при одинаковых показателях душевых чистых сборов могут не совпадать в связи с сокращениями чисел до десятых и сотых долей.
всем зерновым «сам 4,0», то за 1831–1860 гг. – «сам 3,7» и за 1901–1915 гг. – «сам 3,6». В рамках этих крупных хронологических периодов урожайность озимых и яровых в Шенкурском уезде изменялась, иногда довольно заметно. Средние показатели урожаев озимых в уезде всегда были выше показателей урожаев яровых (табл. 2). Отметим, что явного и однозначного влияния «политики попечительства», реформы 1863 г. и других явлений общероссийского характера на изменение урожайности зерновых в Шенкурском уезде не прослеживается.
По тому же принципу, как душевые посевы, выведены и показатели душевых чистых сборов хлебов в Шенкурском уезде (табл. 2). Они в течение XIX в. в отношении озимых имели тенденцию к увеличению. Сборы яровых были неустойчивыми, но в последней трети XIX в., составляя 0,88 четверти на человека, превышали показатели средних сборов за первую и вторую треть столетия (0,74–0,82 четверти на душу). В начале XX в. чистые сборы хлебов в уезде сократились, особенно заметно по озимым (табл. 2).
В соответствии с изменениями душевых чистых сборов хлебов изменились и показатели обеспеченности населения Шенкурского уезда своими хлебами. Данный показатель, на наш взгляд, является наиболее важным при характеристике уровня земледелия. Он выводится в процентах от соотношения чистых среднедушевых сборов к минимальной душевой норме хлебов. Эта норма определена нами в 3 четверти хлебов на человека в год. Она включает в себя 1,5 четверти озимых и столько же яровых. Среди последних условно учитывается минимальная потребность в 0,75 четверти овса и такое же количество других яровых. В минимальную душевую норму входит зерно (2,5 четверти), необходимое для пропитания собственно человека и фуражное зерно (примерно 0,5 четверти), предназначенное для содержания рабочего скота [7, с. 39– 40].
Возвращаясь к материалам табл. 2, отметим, что в конце XVIII – начале XX в. население Шенкурского уезда лучше обеспечивалось своими яровыми хлебами по сравнению с озимыми. В целом жители уезда нечасто обеспечивались своими хлебами наполовину. Недостаток зерна восполнялся за счет привозного хлеба.
Таким образом, источники о посевах и урожаях хлебов с высокой степенью объективности позволяют охарактеризовать уровень земледелия в Шенкурском уезде на протяжении более чем столетнего периода. Этот анализ может быть существенно обогащен характеристикой уровня земледелия в удельной деревне уезда за 1800–1868 гг. и за многие годы – по экономической и государственной деревне, г. Шенкурск, отдельным волостям и селениям. При рассмотрении показателей уровня земледелия, например, по отдельным волостям уезда выясняется несколько важных моментов. Во-первых, в ряде волостей не выращивали овес, и в них за некоторые годы существовал избыток ячменя. В других волостях наблюдалась противоположная ситуация, при избытке своего овса население ощущало дефицит ячменя. Во-вторых, основные показатели уровня земледелия по волостям очень существенно варьировались.
Рассмотрение основных проблем земледельческого производства в Шенкурском уезде можно значительно расширить за счет анализа уровня картофелеводства и характеристики выращивания отдельных зерновых и технических культур (льна и конопли).
И, наконец, предложенная в статье методика выявления уровня земледелия успешно апробирована в соответствующих разделах обобщающего труда по истории Республики Коми [11].
Список литературы Проблемы изучения уровня земледелия на примере Шенкурского уезда Архангельской губернии
- Ковальченко И.Д. Динамика уровня земледельческого производства в России в первой половине XIX в.//История СССР. 1959. № 1. С. 53-86.
- Нифонтов А.С. Зерновое производство в России во второй половине XIX в. М.: Наука, 1978. 318 с.
- История северного крестьянства. В 2-х т. Т. 2. Архангельск: Северо-Западное кн. изд-во, 1985. 383 с.
- Островский А.В. Сельское хозяйство Европейского Севера России 1861-1914 гг. СПб.: Нестор, 1998. 355 с.
- Котов П.П. Роль законодательных актов Российской империи в изучении результативности земледелия XVIII -XIX вв.//История государства и права. 2010. № 22. С. 12 -14.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое (ПСЗ РИ -1). СПб., 1830. Т. 1 -45.
- Котов П.П. Динамика уровня земледелия в Коми крае в конце XVIII-начале XX вв. Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т, 1996.
- Котов П.П. Материалы об общественной запашке удельных крестьян Европейского Севера России как исторический источник//Петербург и Россия. СПб.: Петровский фонд, 1997. С. 453 -457.
- Котов П.П. К вопросу о реформе 1863 г. на Севере//Изучение аграрной истории Европейского Севера СССР на современном этапе. Сыктывкар, 1989. С. 78-83. (Коми НЦ УрО АН СССР).
- История коми с древнейших времен до современности. В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. Сыктывкар: Анбур, 2011. Т. 1. С. 303 -310, 402 -407; Т. 2. С. 66 -79.