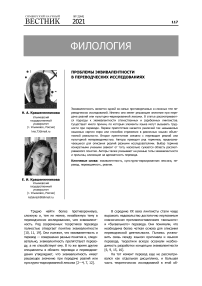Проблемы эквивалентности в переводческих исследованиях
Автор: Н.А. Крашенинникова, Е.И. Крашенинникова
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (44), 2021 года.
Бесплатный доступ
Эквивалентность является одной из самых противоречивых и сложных тем переводческих исследований. Именно она имеет решающее значение при передаче реалий или культурно-маркированной лексики. В статье рассматриваются подходы к эквивалентности отечественных и зарубежных лингвистов. Существует много причин, по которым элементы языка могут вызывать трудности при переводе. Первое препятствие касается различий так называемых языковых картин мира или способов отражения в различных языках объективной реальности. Второе препятствие связано с переводом реалий или культурной непереводимостью. Авторы приводят ряд терминов, предназначающихся для описания реалий разными исследователями. Выбор термина конкретными учеными зависит от того, насколько сужается область рассматриваемого понятия. Авторы также указывают на разные типы эквивалентности и причины, влияющие на адекватность перевода.
Эквивалентность, культурно-маркированная лексика, перевод, переводимость, реалии
Короткий адрес: https://sciup.org/14123780
IDR: 14123780
Текст научной статьи Проблемы эквивалентности в переводческих исследованиях
Трудно найти более противоречивую, сложную и, тем не менее, неизбежную тему в переводческих исследованиях, чем эквивалентность. Ряд современных теоретиков перевода полностью отвергает понятие эквивалентности [10, 11, 19]. Они считают, что эквивалентность и перевод — совершенно разные понятия и, следовательно, эквивалентность препятствует переводу, а не способствует ему. В то же время другие специалисты в области перевода и переводове-дения утверждают, что эквивалентность имеет решающее значение при передаче реалий или культурно-маркированной лексики [2—4, 7, 12].
В середине XX века лингвисты стали чаще выражать недовольство достаточно неуловимым классическим противопоставлением «вольного» и «буквального» перевода. Они понимали, что необходима более четкая основа для описания переводческой деятельности. Пытаясь установить связь между языком оригинала и языком перевода, теоретики вскоре осознали необходимость разработки концепции эквивалентности [6, 9, 15, 16].
На тот момент перевод еще не рассматривался как отдельная дисциплина, и большая часть теоретических исследований в этой об- ласти принадлежала лингвистам. Так, в 1959 году российский и американский лингвист Роман Якобсон написал одну из своих самых известных работ «О лингвистических аспектах перевода». В ней он придерживается очень широкого взгляда на перевод, проводя различие между внутриязыковым переводом (переименованием), межъязыковым переводом (собственно переводом) и межсемиотическим переводом (трансмутацией, т. е. интерпретацией словесных знаков посредством невербальных) [6]. Важно отметить, что межъязыковой перевод, или собственно перевод, определяется через понятие эквивалентности и «включает два эквивалентных сообщения в двух разных кодах».
Несмотря на частое использование терминов «эквивалентность» или «эквивалент», у Р. Якобсона отсутствует четкая формулировка этих понятий. Работа лингвиста была во многом новаторской в обсуждении проблемы эквивалентности и переводимости и вызвала длительные дебаты о самой природе эквивалентности. Известное высказывание ученого, что «языки очень существенно различаются в том, что они должны передавать, но не в том, что они могут передать», до сих пор является важным ориентиром при обсуждении межъязыковых различий.
Говоря об использовании эквивалентности в переводе, Ю. Найда считает, что в различных языках не существует полностью эквивалентных понятий, поэтому необходимо «искать наиболее близкий возможный эквивалент» [16]. Теоретик перевода выделяет два типа эквивалентности (или «две основные ориентации в переводе») — формальную и динамическую эквивалентность и определяет их следующим образом:
-
1. Формальная эквивалентность «акцентирует внимание на самом сообщении как по форме, так и по содержанию». В таком переводе, ориентированном на исходный текст, «нужно обращать внимание на то, чтобы сообщение на языке перевода как можно точнее соответствовало различным элементам языка оригинала». Примером формальной эквивалентности Ю. Найды является «дословный перевод», в котором переводчик внимательно следит за формой и содержанием оригинала (например, в учебных или исследовательских целях и т. д.).
-
2. Динамическая эквивалентность , позже названная «функциональной», основана на принципе эквивалентного эффекта. Другими словами, это такой перевод, «при котором сообщение текста оригинала передано на язык-получатель таким образом, что реакция получателя сообщения аналогична реакции получате-
- лей в языке-отправителе» [17]. В этом случае переводчик учитывает лингвистическую и культурную компетенцию читателя и «стремится к полной естественности выражения».
Найда Ю. подчеркивает, что два типа эквивалентности следует рассматривать как два полюса перевода: существует ряд ступеней между строгой формальной эквивалентностью и полной динамической эквивалентностью [17, р. 160]. Эти два полюса представляются скорее теоретическими конструкциями, чем эмпирическими типами перевода, поскольку на уровне текста очень проблематично установить, что будет представлять собой идеальную формальную или динамическую эквивалентность. Особенно проблематичным является риторическое понятие «эквивалентного эффекта», на котором основана динамическая эквивалентность. Подобная идея об эквивалентности выражена у Ю. Найды и Дж. Тайбера несколько менее догматично, но довольно прямолинейно. Они утверждают, что реакция представителей разных культур на ответ никогда не может быть идентичной, тем не менее необходимо стремиться к высокой степени эквивалентности, иначе перевод не достигнет своей цели [17, р. 24].
Специалисты в области перевода отметили очевидные недостатки этого подхода [8]. По их мнению, довольно сложно, если не невозможно, объективно измерить реакцию читателей на конкретное высказывание или текст. С. Херви и Й. Хиггинс указывают на то, что трудно представить себе даже относительно объективную оценку «эквивалентного эффекта», поскольку реакция даже одного читателя на одно и то же сообщение может различаться в зависимости от времени, настроения и пр. [11, р. 22—23].
Таким образом, выводы, основанные на понятии «эквивалентного эффекта», становятся довольно умозрительными, а попытки достичь его всегда будут субъективны. Несмотря на критику некоторых спорных моментов в теории Ю. Найды, его вклад в изучение проблем перевода был признан важным во многих отношениях.
Примерно в то же время важный вклад в дискуссию об эквивалентности внес Дж. К. Кэт-форд в своей книге «Лингвистическая теория перевода». Согласно Дж. Кэтфорду, каждый язык уникален, как и значение, потому что значение является свойством языка: т. е. русские тексты имеют русское значение, а английские тексты имеют английские значения, поэтому текст оригинала и текст перевода не могут иметь одинаковое значение [9].
Тем не менее Дж. Кэтфорд использует понятие эквивалентности и предлагает следующее деление:
-
1. Формальное соответствие — гипотетические отображения между элементами абстрактных языковых систем.
-
2. Текстовая эквивалентность — реально наблюдаемые сопоставления между элементами исходных текстов и элементами целевых текстов [9].
Это противопоставление оказало влияние на теорию перевода, поскольку внесло некоторый порядок в запутанные и довольно расплывчатые определения эквивалентности. Например, швейцарский лингвист Вернер Коллер, приложивший много усилий для уточнения понятия эквивалентности, аналогичным образом проводит различие между соответствием и эквивалентностью подобно утверждениям Дж. Кэт-форда:
-
1. Соответствие описывает языковые явления в терминах контрастивной лингвистики, которая сравнивает две языковые системы.
-
2. Эквивалентность описывает отношения между элементами в конкретных парах текста оригинала и текста перевода и контекстах.
И Дж. Кэтфорд, и В. Коллер считают эквивалентность эмпирическим феноменом, а не идеальным стандартом для измерения качества перевода.
В конце XX века появляется большое количество исследований в области переводоведения, касающихся «эквивалентного / неэквивалентного, хорошего / плохого, правильного / неправильного». Эдвин Гентцлер среди прочих утверждает, что стандарты, с помощью которых часто анализировались тексты, «ограничивают другие возможности практики перевода, маргинализируют неортодоксальный перевод и ущемляют реальный межкультурный обмен» [10, р. 3—4]. Однако есть теоретики, которые c осторожностью используют термин «эквивалентность». Например, Мона Бейкер в книге «Другими словами: учебное пособие по переводу» предупреждает читателя, что она использует термин эквивалентность просто «для удобства, потому что большинство переводчиков привыкло к нему, а не потому, что он имеет какой-либо теоретический статус» [7, р. 5]. Тем не менее весь учебник построен вокруг понятия эквивалентности, автор говорит об «эквивалентности на уровне слов», «эквивалентности выше уровня слов», «грамматической эквивалентности», «текстовой эквивалентности», «прагматической эквивалентности».
Предписательное использование термина «эквивалентность» вызывало все больше критики и привело к радикальному сдвигу в сторону преимущественно описательного подхода к эквивалентности перевода. В последнее время все большую популярность приобретают такие термины, как локализация, интернализация и транскреация. Все они направлены на преобразование текста с целью правильной передачи его смысла с точки зрения культурных особенностей целевой аудитории.
Более того, в любом языке всегда есть элементы, которые требуют особой аккуратности при переводе, поскольку их намного труднее перевести, чем основной текст. Обычно такие элементы требуют осторожности и сознательного использования переводческих приемов. Лингвисты и специалисты в области перевода называют такие элементы по-разному: реалии, культурно-маркированная лексика и даже критические моменты перевода (translation crisis points) [19]. Современные западные лингвисты вводят понятие стратегического перевода. Так, согласно В. Лёршеру, «стратегический перевод — это перевод, в котором задействовано решение проблем, тогда как нестратегический перевод характеризуется беспроблемной автоматической заменой сегментов текста оригинала сегментами текста на языке перевода» [13].
Существует много причин, по которым элементы языка могут вызывать трудности при переводе. Первое препятствие касается различий так называемых языковых картин мира, или способов отражения в различных языках объективной реальности. Считается, что каждый язык создает собственную картину мира, при этом язык как бы навязывает следующему поколению такую картину мира, вынуждая его видеть окружающий мир сквозь концептуальную сетку данного языка. В этом случае на уровне лексики могут возникнуть проблемы, если понятие, существующее на языке оригинала, известно в сообществе языка перевода, но не зафиксировано в словаре, иначе говоря, не лексикализовано. Так, в английском языке существует слово sibling , не имеющее в русском языке однословного аналога, но переводящееся словами родной брат или сестра .
Второе препятствие связано с переводом реалий или культурной непереводимостью. Реалии — это предметы и явления, отражающие особенности жизни и быта определенного народа. Реалиями называют также слова и словосочетания, обозначающие эти предметы и явления. В данном случае переводчики сталкивают- ся с экстралингвистической непереводимостью, когда понятие, существующее в культуре языка оригинала, отсутствует в культуре языка перевода. Например, русское слово «щи» отсутствует как в американской, так и в британской культуре. Следовательно, нет и лексического элемента, который обозначал бы это понятие. Подобное противопоставление лингвистических и экстралингвистических проблем перевода признается многими теоретиками перевода.
Как уже было отмечено, в переводческой литературе существует большое разнообразие терминов для обозначения проблем, связанных с культурой:
-
— культурные слова или культурные термины (Питер Ньюмарк) [15];
-
— культурно-специфические элементы (Мона Бейкер) [7];
-
— культуремы (Кристиан Норд) [18];
-
— алиенизмы, экзотизмы (В. П. Берков) [1];
-
— лакуны (Альфред Малблан) [14];
-
— локализмы (А. М. Финкель) [5];
-
— безэквивалентная лексика (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров) [2];
-
— реалии (С. Влахов, С. Флорин) [3] и др.
Выбор термина конкретными учеными зависит от того, насколько сужается область рассматриваемого понятия. Другими словами, хотя приведенные выше термины могут показаться синонимами, они часто подразумевают несколько разные точки зрения на проблемы перевода, обусловленные культурой. Например, ученые могут включать или не включать имена собственные (антропонимы, топонимы), идиомы, аллюзии и т. д. при обсуждении лексики, относящейся к конкретной культуре.
В западной теории перевода термины, содержащие слово «культура», встречаются чаще всего, когда речь идет о проблемах экстралин-гвистического перевода, поэтому мы тоже будем придерживаться понятия «культурно-маркированная лексика» или «реалия».
Термин «реалии» был введен в русское пе-реводоведение Андреем Федоровым и первоначально понимался как культурно-специфические объекты и явления. Для слов, обозначающих эти предметы, А. В. Федоров предложил термин «слова-реалии». Однако позже реалии стали все чаще использоваться для обозначения устойчивых к переводу лексических единиц [4]. С тех пор термин «реалии» был принят некоторыми западными учеными-переводчиками [12, 19], но так и не стал общепризнанным. Я. Педерсен критикует термин «реалии» за его расплывчатость и многозначность. Более того, первоначальное значение слова (лат. «реальные вещи») вступает в противоречие с тем фактом, что слова, относящиеся к определенной культуре, могут иметь вымышленные ссылки. Чтобы разрешить этот парадокс, М. Лопонен предлагает термин «ирреалия» для выдуманных предметов вымышленного мира.
На наш взгляд, употребление термина «реалия» может быть обусловлено несколькими аргументами. Во-первых, это относительно устоявшийся термин в теории советского / русского перевода и, как упоминалось выше, не совсем незнакомый западным ученым. Во-вторых, реалия обычно относится к более конкретному классу лексики по сравнению с такими широкими понятиями, как предметы, связанные с культурой, которые часто подразумевают всевозможные лексические элементы, несущие какие-либо специфические для культуры коннотации, включая названия произведений искусства, идиомы, аллюзии, каламбуры, диалекты и т. д. Реалии также не охватывают лексические элементы, относящиеся к вымышленным элементам. В-третьих, термин «реалия» удобно использовать в качестве ключевой концепции без необходимости вводить акроним.
Наиболее точно интерпретируют данное понятие С. Влахова и С. Флорина, которые определяют реалии как лексические единицы исходного языка, обозначающие предметы и явления, характерные для одного языкового сообщества (его повседневную жизнь, социальное и историческое развитие) и отсутствующие в другом. Следовательно, эти лексические элементы не имеют точных соответствий на целевом языке и требуют особой обработки при переводе. Такими словами и выражениями в русском языке, например, являются: самовар, аршин, копейка, щи, квас, дача, декабрист, НЭП, военный коммунизм и т. д. Другими словами, определение реалий, данное С. Влаховым и С. Флорином, очень похоже на то, которое западные ученые давали предметам, относящимся к определенной культуре, т. е. культурно-маркированной лексике. Так, Норд утверждает, что культурно-специфический феномен — это «явление, которое существует в определенной форме или функционирует только в одной из двух сравниваемых культур» [18, р. 34].
Проанализируем русское слово «дача » и попробуем установить, можно ли его рассматривать как реальность. В одноязычном словаре русского языка дача определяется как «загородный дом, используемый во время летних каникул». В качестве заимствования оно включено в Оксфордский словарь английского языка: “Dacha (datcha): a country house or cottage in Russia, typically used as a second or holiday home” («Дача: загородный дом или коттедж в России, обычно используемый как второй дом или дом для отдыха») definition/dacha). Словарь американского наследия предлагает аналогичное определение: “A vacation cottage or country villain Russia or other parts of the former Soviet Union” («Загородный коттедж или загородная вилла в России или других частях бывшего Советского Союза») .
Таким образом, русское слово «дача » уже вошло в английские словари, но по-прежнему несет в себе сильную культурную коннотацию: во всех определениях есть отсылка к России, а на практике это слово используется только для описания дачи в России (или в бывшем СССР). Причина, по которой это слово было заимствовано в другие языки в результате межкультурных контактов, вероятно, состоит в том, что оно было воспринято для описания концепции, существенно отличающейся от аналогичных явлений в англоязычных сообществах. Тем не менее это слово плохо усваивается в английской лексике. Если мы посмотрим, как трактуют дачу в различных переводах русской художественной литературы на английский язык, то увидим большое количество разнообразных визуализаций наряду с дачей : загородный дом, загородная вилла, летний курорт, летняя вилла, вилла, вилла вне дома (примеры взяты из RuNCorpus nskap/sprak/korpus/flersprakligekorpus/run). Такое разнообразие переводческих решений свидетельствует о том, что ни один из переводчиков не рассматривает слово «дача » как уникальную культурно-специфическую концепцию.
Следует ли рассматривать дачу как культурно-специфическую, принадлежащую к категории реалий и, следовательно, проблемную при переводе? По каким критериям данное слово или словосочетание следует рассматривать как реальность? Несмотря на неоспоримые разрывы между разными культурами, можно утверждать, что люди воспринимают и классифицируют реальность в основном одинаково. Во всех культурах люди производят измерение величин, неважно чем: метрами, ярдами, лье и пр. Может ли разница между сопоставимыми явлениями в разных культурах рассматриваться переводчиками и специалистами по переводу как значимая и, следовательно, на которую стоит обратить внимание, до сих пор остается спорным вопросом.
Список литературы Проблемы эквивалентности в переводческих исследованиях
- Берков В. П. Норвежская лексикология / В. П. Берков. — СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2011. — 192 с.
- Верещагин Е. М. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. — М. : Индрик, 2005. — 1040 с.
- Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. — М. : Международные отношения, 1980. — 342 с.
- Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): для институтов и факультетов иностранных языков : учебное пособие / А. В. Федоров. — 5-е изд. — СПб. : Филологический факультет СПбГУ ; М. : ООО Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. — 416 с.
- Финкель А. М. Об автопереводе / А. М. Финкель // Теория и критика перевода. — Л. : Наука, 1962. — С. 104—125.
- Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода / Р. Якобсон // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. — М. : Международные отношения, 1978. — С. 16—24.
- Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation, 2nd edition, London: Routledge, 2011.
- Broeck R. The Concept of Equivalence in Translation Theory: Some Critical Reflections, in J. S. Holmes, J. Lambert and R. van den Broeck (eds) Literature and Translation, Leuven: Academic, 1978.
- Catford J. C. A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press, 1965.
- Gentzler E. Contemporary Translation Theories, London & New York: Routledge; 2nd edition, Clevedon: Multilingual Matters, 2001.
- Hervey S., Higgins I. Thinking Translation. A Course in Translation Method: French-English, London: Routledge, 1992.
- Leppihalme R. Realia, in Yves Gambier and Luc van Doorslaer (eds.) Handbook of Translation Studies, vol. 2, Amsterdam: John Benjamins, 2011.
- Lörscher W. Translation Performance, Translation Process, and Transplation Strategies: A Psycholinguistic Investigation, Tübingen: Gunter Narr, 1991.
- Malblanc А. Stylistique comparée du français et de l’allemand, Paris: Didier, 1961.
- Newmark P. Approaches to Translation, Oxford: Pergamon Press, 1981.
- Nida E. Toward a Science of Translating, Leiden: Brill, 1964.
- Nida E., Taber Ch. The Theory and Practice of Translation, With Special Reference to Bible Translating, Leiden: Brill, 1969.
- Nord Ch. Translation as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained, Manchester: St. Jerome, 1997.
- Pedersen J. Subtitling Norms for Television: An Exploration Focusing on Extralinguistic Cultural References, Amsterdam: John Benjamins, 2011.