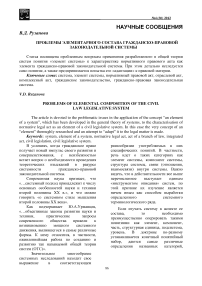Проблемы элементарного состава гражданско-правовой законодательной системы
Автор: Рузанова В.Д.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 4 (30), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемным вопросам применения разработанного в общей теории систем понятия «элемент системы» к характеристике нормативного правового акта как элемента гражданско-правовой законодательной системы. При этом детально исследуется само понятие, а также предпринимается попытка его «адаптации» к правовой материи.
Система, нормативный правовой акт, комплексный акт, гражданское законодательство, гражданско-правовая законодательная система
Короткий адрес: https://sciup.org/142233609
IDR: 142233609
Текст научной статьи Проблемы элементарного состава гражданско-правовой законодательной системы
В условиях, когда гражданское право получает новый импульс своего развития и совершенствования, с неизбежностью встает вопрос о необходимости проведения теоретических изысканий в ракурсе системности гражданско-правовой законодательной системы.
Современная наука признает, что «…системный подход принадлежит к числу основных особенностей науки и техники второй половины XX в.», и что можно говорить «о системном стиле мышления второй половины XX века».
Как подчеркивает Ю.А.Урманцев, «…объективные законы развития науки и техники, практические запросы современного общества привели к возникновению мощного системного движения, вылившегося в самые различные формы. К нему относится, в частности, оживленнейшая работа по созданию и развитию так называемой общей теории систем (ОТС)».
Значительное многообразие системных исследований находит свое выражение в соответствующем разнообразии употребляемых в них специфических понятий. В частности, речь идет о таких категориях как элемент системы, компонент системы, структура системы, связи (отношения, взаимосвязи) внутри системы. Важно видеть, что в действительности все выше перечисленное выступает единым «инструментом описания» систем, по этой причине их изучение является ничем иным как способом выработки определенного системного терминологического ряда.
Если изучать систему в аспекте ее состава, то необходимо преимущественно оперировать такими понятиями как элемент, компонент, часть, структурная единица, подсистема, уровень. В доктрине по-разному устанавливается конечный понятийный набор, даются самые различные определения названных категорий,
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика предлагается множество вариантов их соотношения1.
Приведем ряд рассуждений на эту тему. Так, В.Г.Афанасьев отождествляет такие понятия как часть, компонент и структурная единица системы, именуя компонентом любую часть системы, вступающую в определенные отношения с другими ее частями, относя к нему элементы и подсистемы. Д.А.Керимов, напротив, исходит из необходимости проводить строгое разграничение таких категорий как часть и элемент системы, т.к. «элемент, будучи частью определенного целого, вместе с тем только к нему не сводится, поскольку представляет собой не «чистую» изолированную часть, а рассматривается в комплексе ее связей с другими частями целого и самим целым. В.С.Тюхтин, например, по этому поводу пишет: «При изучении системного объекта важно определить не только его исходные минимальные единицы – компоненты системы, но и подсистемы и иерархические уровни данной системы. Компоненты подсистемы и уровни системы обладают относительной самостоятельностью, или автономностью, представляя собой дискретные качественно различные (разнородные) части системы. Определение числа и качественного различия компонентов и (или) подсистем и уровней данной системы характеризует ее состав. Знание состава позволяет перейти к выявлению главной характеристики системы – ее структуры, организации. При этом автор предлагает отличать единицы системы от составляющих единиц структуры и организации: целесообразно с системой сопоставить образующие ее «компоненты», а со структурой (и организацией) – образующие ее «элементы». Таким образом, по его мнению, понятия «компонент системы» и «элемент структуры» одинаковы по объему и их различие состоит только в

выполняемой ими познавательной функции2.
Из изложенного и из высказываний автора, содержащихся в других работах, усматривается некая «терминологическая непоследовательность»: термин «компонент системы» («элемент структуры») он употребляет то в узком (как минимальная единица), то в широком значениях (как совокупность минимальных единиц, подсистема, а также свойство, состояние, связь и отношение, функция, уровень организации, этап, стадия, фаза, цикл функционирования, поведения в среде и развития). Считаем, что, во-первых, не следует искусственно усложнять «системную» терминологию, поскольку она в силу многогранности исследуемого явления (системы) даже в рамках «минимально необходимого» уже представляет собой сложный понятийный арсенал, а во-вторых, нельзя вкладывать в одно понятие различное содержание, а также чрезмерно его расширять, т.к. в этом случае оно теряет качества «инструмента познания».
Рассмотрим категорию элемент в целях определения теоретической основы для решения вопроса о составе гражданско-правовой законодательной системы.
Подавляющее большинство авторов сходятся во мнении, что элемент – это предел членения в рамках данного качества системы, то есть он далее неделим. Однако неделимость элемента является относительной, поскольку он неделим не вообще, а только в рамках данного качества. «Элемент, – подчеркивает М.Г.Макаров, – в указанном смысле – то, что в пределах данной структуры системы как бы не имеет структуры»3. Как

справедливо отмечает А.Н.Аверьянов, элемент как таковой, в абсолютном смысле, вне системы не существует и его следует отличать от частей системы, поскольку частью системы может выступать любая произвольно или естественно выделенная группа элементов.
При этом многие исследователи обращают внимание и на функциональный аспект элемента. Так, И.В.Блауберг и Э.Г.Юдин, определяя элемент «как минимальную единицу, способную к относительно самостоятельному осуществлению определенной функции», констатируют: «… элемент не может быть описан вне его функциональных характеристик, - с точки зрения системы важно, в первую очередь, не то, каков субстрат элемента, а то, что делает, чему служит элемент в рамках целого». С такой функциональной характеристикой, по их мнению, связано представление об активности элемента в системе, причем этой активности нередко придается решающее значение. Далее, они высказывают интересную мысль о том, что это порождает парадоксальную ситуацию, поскольку объяснение активности вообще-то предполагает поиск какого-то ее источника внутри элемента, а это значит, что мы должны отказаться от представления об элементарности элемента. «Однако, - пишут авторы, -фактически здесь, конечно, налицо серьезная гносеологическая и методологическая проблема, которая, видимо, должна решаться путем образования последовательного ряда системных представлений об одном и том же объекте с фиксированными способами перехода от одного представления к другому, т.е. за счет построения особого конфигуратора (особого в смысле иерархической связи образующих его системных представлений)».
Вместе с тем, необходимо видеть неразрывную связь элемента и целого. На данное обстоятельство неоднократно обращалось внимание в доктрине. Так, В.П.Кузьмин утверждает, что проблема качественной самостоятельности элементов и интегральных свойств целого (системы) методологически чрезвычайно важна, и ее решение сталкивается, прежде всего, с двумя вопросами: относительностью всех и всяческих представлений об элементах действительности и различение степеней качественной самостоятельности в интегрированном целом. Отвечая на первый вопрос, автор заключает, что понятие «элемент» в системном подходе имеет, главным образом, соотносительный смысл -«части изучаемого целого, совокупности, системы». Применительно ко второму вопросу, он делает вывод о необходимости отчетливо различать следующие уровни: интегральных качеств (и законов) целого и элементно-предметный уровень его составляющих.
В литературе также отмечается, что элементы системы могут быть однородными (качественно-тождественными) и неоднородными. При этом системы, состоящие из качественно-тождественных элементов, принимаются за первичные, а системы, состоящие из качественно различных элементов, рассматриваются как вторичные. Так, А.Н.Аверьянов характеризует первичные системы в качестве исходных для развития определенного многообразия и лежащих в основе вторичных систем. Вместе с тем, он подчеркивает, что любая система состоит из элементов, тождественных по какому-то определенному признаку, что и позволяет им составлять систему. Иначе говоря, с точки зрения автора, материя организована в системы качественно различных, взаимосвязанных и переходящих друг в друга уровней.
Многие ученые обращают внимание на то важное обстоятельство, что элемент, входя в систему, взаимодействует с другими элементами не целиком, а одной или несколькими сторонами (группами своих сторон). Отмечается также, что «чем больше сторон и свойств элементов участвует во взаимодействии, тем сложнее структура». При этом одни и те же элементы, взаимодействуя различными сторонами, могут образовывать различные системы 88
(структуры), т.е. они могут входить в несколько систем (структур) одновременно.
Важно отметить, что рядом автором выводится некая закономерность расширения «площади соприкосновения» элемента с системой. Так, В.И.Свидерский, Р.А.Зобов пишут: … «имеется общая тенденция, состоящая в том, что по мере развития структуры в нее включается все большее количество сторон данных явлений как элементов рассматриваемого целого. При этом оказывается, что участие сторон элементов-явлений будет зависеть от развития целого. … всю совокупность своих сторон оно ( явление-элемент, курсив мой) может выявить не в единичной структуре, а лишь в совокупности, иерархии структур».
Для полноты освещения темы настоящего исследования большое значение имеют и выводы ученых относительно места того или иного элемента в системе. Так, М.Г.Макаров констатирует, что в системе элементы различаются по их месту, значению, выполняемой роли и среди элементов может быть часть, которая доминирует, определяет в более или менее значительной степени свойства целого.
В доктрине выделяется принцип минимизации числа элементов: минимизация связана с тем, что каждый элемент должен выполнять определенную функцию по отношению к целому. Б.В.Ахлибининский по данному поводу пишет: «Становление системности в развивающемся объекте подчиняется экстремальному принципу, а именно, происходит в направлении, ведущем к минимальному числу качественно различных функциональных элементов, так что в результате каждому элементу соответствует определенная функция» (автор раздела – Б.В. Ахлибининский)].
«Именно благодаря структуре, - говорит В.Г.Афанасьев, - набор элементов превращается в связанное целое, где каждый элемент оказывается, в конечном счете, связанным со всеми другими элементами и его свойства не могут быть поняты без учета этой связи». Мы осознаем, что в полной мере смысл понятия «элемент» в действительности может быть раскрыт не как самостоятельная категория, а лишь в соотношении со структурой как законом связи элементов между собой. Однако в рамках настоящей статьи мы сосредоточимся на анализе элемента как такового, памятуя о его месте в составе и роли в структуре системы. При этом мы предлагаем все структурные части системы именовать обобщающим понятием «компонент», понимая под ним элемент, подсистему и уровень4.
Таким образом, элемент – это минимальный неделимый компонент системы, способный к относительно самостоятельному осуществлению определенной функции.
Используя выше приведенные положения общей теории систем, сделаем ряд выводов относительно особенностей элементарного состава гражданско-правовой законодательной системы. Прежде всего, отметим, что в юридической литературе вопрос об элементе законодательства решается неоднозначно. Одни авторы считают таким элементом норму права, другие ограничиваются указанием на то, что нормативный акт в целом является элементом системы законодательства, третьи относят к элементам системы законодательства и статьи закона и нормативные акты (автор гл.11 О.С.Иоффе)]. Полагаем, что нормы права в принципе не могут быть отнесены к элементу системы законодательства, поскольку они являются элементом права как содержания, а не законодательства как формы. Критикуя последнюю позицию, С.В.Поленина справедливо подчеркивает, что поскольку на каждом уровне членения любой системы может быть лишь один ее минимальный компонент, лишь один предел ее членения, то статья закона либо часть нормативного акта не могут являться элементами системы законодательства наряду с нормативным актом. И далее автор заключает, что
-
4 В литературе нет развернутых определений понятий «подсистема» и «уровень». Предлагаем под ними понимать определенную совокупность (группу) элементов, которая в силу наличия специфических связей между элементами (иными компонентами) и с системным целым в рамках системы обладает относительной целостностью. При этом «подсистема» и «уровень» различаются по степени охвата других компонентов системы.

нормативное предписание, структурная часть нормативного акта и нормативный акт в целом нельзя назвать разными уровнями членения системы законодательства, как, например, законы и подзаконные акты, акты простые и кодификационные и т.д.
Мы неоднократно высказывались по данному поводу. Считаем, что минимальным компонентом системы законодательства является нормативный правовой акт, а при понимании законодательства в узком смысле таким элементом выступает закон (применительно к гражданскому законодательству – федеральный закон). В целях установления терминологической определенности предлагаем понятие «гражданское законодательство» применять тогда, когда речь идет о совокупности федеральных законов, а конструкцию «гражданско-правовая законодательная система» - в значении совокупности нормативных правовых актов всех уровней (федеральных законов, иных правовых актов и ведомственных нормативных правовых актов).
Итак, элементом названной системы является нормативный правовой акт. В связи с этим возникает вопрос, о каком акте идет речь с точки зрения его содержания? Ведь, как известно, она состоит как из отраслевых, так и комплексных нормативных правовых актов. Считаем, что в состав гражданско-правовой законодательной системы следует включать, наряду с отраслевыми, и комплексные акты, содержащие нормы гражданского права, за исключением тех, которые по своему основному содержанию относятся к другой отрасли законодательства, тем более, если такие законы являются кодификационными, например, Земельный кодекс Российской Федерации. Конечно, мы понимаем некую условность указанного основания разграничения различных законодательных систем, но вместе с тем полагаем, что без его установления невозможно в принципе говорить о наличии отраслей в российском законодательстве. Сложность выработки данного критерия, конечно же, связана с тем важным и непреложным фактом, что законодательство представляет собой некое «дифференцированное единство».
В правовой доктрине имеются известные утверждения о наличии в системе права и законодательства двух структур: главной (первичной) (деление права и законодательства на отрасли и иные структурные элементы по предмету и методу регулирования) и дополнительной
(вторичной) (состоящую из образования комплексных массивов правовых норм различных отраслей права и законодательства). В терминах системного подхода можно говорить о том, что отраслевые акты являются однородными (качественно-тождественными), а комплексные – неоднородными. Поэтому они могут быть представлены в виде двух структур гражданско-правовой законодательной системы.
При этом наблюдается следующая закономерность: отраслевые акты в отличие от комплексных взаимодействует с другими отраслевыми актами и с системой в целом наибольшим (максимальным) числом своих сторон и свойств. Гражданско-правовые отраслевые акты функционируют в составе системы с наибольшей полнотой, поскольку в их основе лежит система гражданского права. Комплексные же акты, в свою очередь, могут входить в другие отраслевые законодательные системы и проявлять свою активность в них через другие стороны и свойства.
В сфере законотворчества задача состоит в расширении «площади соприкосновения» элементов между собой и с системой путем установления согласованного правового регулирования и определения правил иерархии нормативных структур. Активность нормативного акта как элемента рассматриваемой системы находит свое проявление через содержащиеся в нем правовые нормы, уровень силы которых определяется фактом их нахождения в том или ином акте (в ГК РФ, в федеральном законе или указе Президента РФ, в отраслевом или комплексном акте и т.д.). И если использовать мысль И.В.Блауберга и Э.Г.Юдина о необходимости построения особого конфигуратора, то можно предложить в качестве такового введение единого критерия соотношения всех видов нормативных актов, содержащих нормы гражданского права, – это их юридическая сила, понимаемая как многофакторное явление, служащее универсальным основанием иерархии (т.е. соподчиненности) актов и структур. Ценность указанного подхода состоит в том, что он дает возможность решения сложнейшей гносеологической и методологической проблемы: позволяет связать воедино все многообразие элементарного состава гражданско-правовой законодательной системы и объяснить активность ее элементов через действие содержащихся в них правовых норм.
В аспекте распределения ролей элементов, в зависимости от их влияния на свойства системы, положения общей теории систем имеют особое значение, поскольку в центре гражданско-правовой законодательной системы стоит ГК РФ, приоритет которого нами обосновывался неоднократно. Не менее важным является использование принципа минимизации числа элементов системы, так как не вызванное действительной необходимостью разрастание нормативного массива выступает одной из причин «сбоев в системе». Применение указанного принципа весьма полезно также при определении уровней правового регулирования и установлении баланса между различными видами нормативных правовых актов, содержащих нормы гражданского права.
В завершении подчеркнем, что изучение гражданско-правовой законодательной системы через призму системного подхода необходимо рассматривать в качестве основного направления ее исследования, имеющего скрытые резервы и большие перспективы и являющегося теоретически и практически значимым.
Список литературы Проблемы элементарного состава гражданско-правовой законодательной системы
- Аверьянов А.Н. Категория «система» в диалектическом материализме. - М.: Мысль, 1974.
- Афанасьев В.Г. Системность и общество. - М.: Политиздат, 1980.
- Ахлибининский Б.В., Ассеев В.А., Шорохов И.М. Принцип детерминизма в системных исследованиях. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984.
- Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методол. проблемы. - М.: Политиздат, 1985.
- Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. - М.: Наука, 1973.
- EDN: RVCMPR