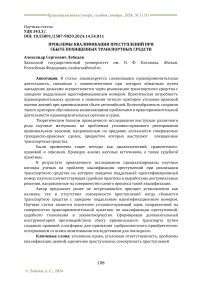Проблемы квалификации преступлений при сбыте похищенных транспортных средств
Автор: Лебедев А.С.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Статья в выпуске: 3 (31), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется сложившаяся правоприменительная деятельность, связанная с мошенничеством при котором обманным путем завладение деньгами осуществляется через реализацию транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером. Практическая потребность правоохранительных органов в появлении четкого критерия уголовно-правовой оценки деяний при криминальном сбыте автомобилей. Целесообразность создания такого критерия обусловлена возникающими проблемами в правоприменительной деятельности правоохранительных органов и судов. Теоретическим базисом проведенного исследования выступили различного рода научные материалы по проблемам уголовно-правового реагирования криминальным вызовам, направленным на придание легальности совершаемых гражданско-правовых сделок, предметом которых выступают похищенные транспортные средства. Были применены такие методы как диалектический, сравнительно-правовой и описания. Проведен анализ научных источников, а также судебной практики. В результате проведенного исследования проанализированы научные взгляды ученых на проблему квалификации преступлений при реализации транспортного средства на котором заведомо поддельный идентификационный номер, изучена соответствующая судебная практика и выработаны доктринальные решения, направленные на совершенство самого процесса такой квалификации. Автор предлагает ранее не встречавшийся принцип установления как наличия, так и отсутствия совокупности преступлений когда сбывается транспортное средство с заведомо поддельным идентификационным номером. Научная статья является носителем уголовно-правовой идеи, направленной на совершенство правоприменительной практики по квалификации преступлений, судебного толкования и законотворчество. Сформирован дополнительный инструментарий противодействия сбыту криминального транспорта путем создания правовой платформы для признания «добросовестного приобретателя» потерпевшим со всеми позитивными последствиями для последнего.
Уголовное право, уголовная ответственность, проблемы квалификации деяний, единичное преступление, совокупность преступлений
Короткий адрес: https://sciup.org/143183559
IDR: 143183559 | УДК: 343.3 | DOI: 10.55001/2587-9820.2024.14.54.011
Текст научной статьи Проблемы квалификации преступлений при сбыте похищенных транспортных средств
В доктрине уголовного права достаточно много внимания уделяется исследованиям вопросов противодействия мошенничеству, в ходе ко- торых не ослабевают дискуссии относительно целесообразности дробления базового состава мошенничества, закрепленного в ст. 159 УК РФ путем сохранения основного и созда- ния дополнительных составов мошенничества [1, с. 507]. Усилия ученых и практиков последние 10 лет направлены на поиск новых решений в противодействии мошенничеству, что вполне очевидно на фоне, к примеру, сведений о структуре преступности в России за 6 месяцев 2024 год, где мошенничество составляет почти половину всей преступности (45,7 %) с динамикой роста (+7,9 %), в условиях общего, пусть и незначительного (2,7 %), но все же снижения регистрации преступлений1.
Основная часть
В контексте направленности борьбы с мошенничествами значительно чаще стали фиксироваться случаи квалификации мошенничеств когда транспорт с поддельным или уничтоженным идентификационным номером реализуется под видом законной сделки. При этом не взирая на сформировавшуюся на самом высоком уровне практику такой квалификации, нет достаточных критериев для разграничения единичного преступления от множественности преступлений. При этом верная квалификация преступлений является гарантом соблюдения интересов общества и государства, поскольку ее целью является защита нарушенных правовых гарантий жертв преступлений [2, с. 120].
В целом правоприменитель с момента криминализации ст. 326 УК РФ (с 1996 года) зачастую в случае сбыта автомобиля с поддельным или уничтоженным идентификационным номером давал уголовно-правовую оценку содеянному по ст. 159 УК РФ. Доктриной такая квалификация при- знавалась ошибочной [3, с. 143; 4, с. 70; 5, с. 136; 6, с. 40–41; 7, с. 93]. В то же время, отдельными судами указывалось, что последующие действия с похищенным транспортным средством, направленные на подделку его идентификационного номера и сбыт с уже измененным идентификационным номером, охватываются хище-нием2. В частности, П. А. Филиппов по этому поводу справедливо замечал, что по общему правилу действия виновного с похищенным уже охвачены хищением, но из него следует исключать те случаи, при которых последующие действия с похищенным содержат самостоятельный состав преступления [8, с. 490].
Затем в 2015 году наступает переломный момент в судебном регулировании, возникающих спорных вопросов уголовно-правовой оценки реализации автомобилей, имеющих поддельный идентификационный номер. Так, Верховный суд РФ указал, что все члены преступной организации, созданной для хищений транспортных средств с последующим изменением идентификационной маркировки с целью их сбыта, хищений путем обмана денег, сбывая гражданам такой транспорт придавая видимость законной сделки. Вышеупомянутая преступная схема получила юридическую оценку в виде квалификации по ч. 2 ст. 326, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 210 УК РФ. Правовая мотивация Верховного суда РФ выразилась в следующем. Совершение подделки идентификационного номера автомобиля в целях его сбыта не содержат исчерпывающий перечень умышленных преступных действий осужденных, совершенных ими с целью преступного получения имуще- ства потерпевших. Вместе с тем, преступные действия при совершении ими мошенничества, сопряженного с подделкой и уничтожением идентификационного номера в целях сбыта автомобилей верно оценены как совокупность преступлений (ст. 159 и 326 УК РФ), так как вред был причинен различным объектам, охраняемым уголовно-правовым законода-тельством3.
Следовательно, Верховным Судом РФ раскрывается суть обмана как способа совершения хищения или приобретения права на чужое имущество. Такой обман может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуж-дение4. При этом в доктрине имеется точка зрения, что Верховным Судом РФ участились случаи формулирования особых, исключительных правил квалификации отдельных деяний в противовес единых правил квалификации формирует ряд индивидуальных правил, размывающих и девальвирующих единое правило. Данные явления, К. В. Ображиев, называет «казуализацией» правил квалификации преступлений [9, с. 169].
Практические доктринальные ожидания отчасти оправдало постановление Верховного Суда РФ, посвящённое формированию унифицированного характера применения уголовно-правовой нормы (ст. 326 УК РФ), в месте с тем, к сожалению, в нем не было упоминания о разрешении спорных вопросов квалификации когда речь шла о реализации автомобилей с заведомо поддельным идентификационным номером.5
Следует рассмотреть примеры судебного разрешения уголовных дел, анализируя их предложим действенные рекомендации по уголовноправовой оценке криминального сбыта транспорта, подвергнутого изменению идентификационного номера.
В г. Йошкар-Ола потерпевший гр. Л., не зная о криминальном происхождении автомобиля, не подозревая о том, что не сможет распоряжаться транспортным средством, приобрел у гр. Ш. и гр. К. автомобиль, похищенный у гр. И., на котором ранее гр. Я. и иное лицо с целью обмана и придания правомерного вида произвели замену верхнего маркируемого элемента правой опоры со знаками кузова, уничтожив маркировку двигателя и заводскую табличку с идентификационным номером в зоне должного своего крепления, под видом законного «не пригодного для эксплуатации автомобиля». Суд данные действия гр. Я. квалифицировал по ч. 2 ст. 159 УК РФ.6 Возникает вопрос, почему суд не усмотрел признаков ст. 326 УК РФ. В приведённом примере мы должны понять, в чем логика подобной квалификации.
По субъективной стороне составы ст. 326 и ст. 159 УК РФ, при сбыте транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, не отличаются. Рассматривая возможное разграничение в объекте посягательства, видим, что имеются разграничения. При реализации криминального транспорта с заведомо поддельным идентификационным номером в первую очередь вред наносится установленному порядку управления7, а уже в качестве дополнительного объекта выступают имущественные отношения. Объектом же ст. 159 УК РФ выступают имущественные интересы. По такому элементу состава преступления, как «объективная сторона», отличие также имеется. В ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, то есть законодателем сформулированы общие признаки преступления, которые нашли свое отражение в итоговой квалификации преступных действий гр. Я. «сбывал, создавая видимость законного, но при этом юри- дически не пригодного для эксплуатации автомобиля». Вместе с тем, анализируя диспозицию ст. 326 УК РФ «сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером». Сравнивания объективные стороны составов преступлений, мы видим, что в первом случае речь идет о хищении. Во втором случае транспортное средство сбывается также «возмездно», но при этом законодательная техника полностью описывает содержание деяния.
Перейдем к следующему примеру. Гр. П, заведомо зная, что идентификационный номер имеющегося у него автомобиля «Х», сбыл указанный автомобиль «Х» с поддельным идентификационным номером, используя который, ввел гр. У. и гр. А. в заблуждение относительно законности происхождения автомобиля «Х», тем самым облегчив путем обмана совершение хищения принадлежащего последним имущества, которое гр. У. и гр. А. передали в обмен на вышеуказанный автомобиль «Х», поверив в сообщенные гр. П заведомо ложные сведения о своем праве на законных основаниях распоряжаться указанным автомобилем. Суд квалифицировал действия подсудимого гр. П. по ч. 1 ст. 326 УК РФ – сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, а также по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном раз- мере8. Итак, мы видим, что подобное усмотрение становится системным, однако отсутствие четких критериев для верной квалификации таких деяний может сбивать с толку правоприменителя, из-за того, что усмотрение, не основывается на нормативных критериях, приводит к неопределенности судебной практики и создает трудности в правовой оценке [10, с. 9].
Не подлежит сомнению, что в нынешнее время выработалось такое положение дел, при котором прецедент формируется без оглядки на положения уголовно-правовой теории, все больше начинает выполнять функции самостоятельного источника права, далеко не всегда способного решить проблемы квалификации деяний в силу многообразия вариантов отклонения преступных событий от основного, которое нашло прецедентное закрепление [11, с. 6].
В то же время, если абстрагироваться от судебного прецедента, а рассмотреть возникшую проблему квалификации с позиции конкуренции уголовно-правовых норм, то возникает вопрос. К какому виду конкуренции уголовно-правовых норм отнести рассматриваемую квалификацию? Нам представляется, что ее следует рассматривать в плоскости конкуренции целого и части. И вновь нам приходится прибегать к фундаментальным положениям науки уголовного права, в соответствии с которыми, в случае конкуренции целого и части квалификация производится по целому, а именно по норме, охватывающей в большей степени конкретные признаки деяния [12, с. 96]. Следовательно, квалификация таких де- яний по ст. 159 УК РФ во всех характерных случаях недопустима.
Абсолютное большинство криминального транспорта сбывается в условиях неочевидности. Условно названные «добросовестные приобретатели», расставшись со значительной суммой на покупку автомобиля с поддельным идентификационным номером, не могут его законно эксплуатировать в силу установленных законодательством РФ ограни-чении9. Таким образом, сделки с транспортными средствами, имеющими поддельный идентификационный номер, не прекращаются, а напротив, носят системный характер, что с точки зрения законов статистики, в частности «закона парных случаев», вполне объяснимо. В частности, во-первых, желанием избавиться от неликвидного имущества, не потеряв вложенных средств на его приобретение, а во-вторых, когда субъект сбыта – сам учувствовал в хищении автомобиля, то речь идет о способе хищения денежных средств у лиц, приобретающих, мягко говоря, «неликвидный продукт». Итак, эмпирические закономерности [13, с. 106] обусловлены факторами, сопутствующие сбыту похищенного транспортного средства, связанные с корыстным поведением [14, с. 92]. Образовавшаяся практика системности гражданско-правовых сделок с подобными транспортными средствами сопряжена с устоявшейся позицией органов дознания при обнаружении преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, предмет преступления возвращать под сохранную расписку тому, собственно у которого его изъяли.
При этом анализ судебной практики свидетельствует о том, что сбыт автомобилей с поддельным идентификационным номером может образовывать совокупность со ст. 159 УК РФ. Следовательно, исходя из «суммарного объема» причиненного вреда разным объектам, резюмируем, что ущерб для гражданина, как правило, является значительным (ч. 2 ст. 159 УК РФ), что относится к преступлениям средней тяжести. Соответственно, при обнаружении сбыта транспортных средств, с поддельным идентификационным номером, предлагаем регистрировать одновременно два преступления ст. 326 УК РФ и ст. 159 УК РФ, что, вне всякого сомнения, с одной стороны, увеличит нагрузку на органы внутренних дел, а с другой стороны, качественно усилит защиту интересов граждан от прецедентов сбыта криминального транспорта. Все дело в том, что у лица, кроме имеющихся гражданско-правовых средств противодействия таким сделкам, открываются дополнительные уголовно-правовые, криминологические и уголовнопроцессуальные средства противодействия, качественно иные, более репрессивные по своему характеру, а значит, и более эффективные. К примеру, при расследовании уголовного дела по ст. 326 УК РФ, гражданина, который приобрел такой автомобиль, невозможно признать потерпевшим в силу объекта охраны данного преступного деяния. Вместе с тем, при дополнительной уголовно-правовой оценки деяния по ст. 159 УК РФ приобретатель транспортного средства будет признаваться потерпевшим. Тем самым расширяется спектр охраны интересов добросовестного приобретателя от криминальных сделок, поскольку такие права получают дополнительную регуляцию УПК РФ. При получении процессуального статуса «потерпевшего» лицу гарантируется возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.
Кроме того, расширяется горизонт возможностей для установления лица, совершившего преступления. Обусловлено это тем, что орган дознания, применяя положение ст. 78 УК РФ, сможет прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности по истечении уже не двух, а шести лет, так как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, является преступлением средней тяжести.
Таким образом, мы видим, что, применив к вопросу квалификации более содержательный, научно обоснованный подход, открываются дополнительные механизмы противодействия незаконному обороту криминальных транспортных средств, в частности криминологические и уголовно-процессуальные средства воздействия.
Возвращаясь непосредственно к вопросам уголовно-правовой оценки сбыта транспортных средств с поддельным идентификационным номером, напомним о ранее предпринятых попытках научной фиксации теоретических положений квалификации. В частности, А. С. Суворов подчёркивает, что если сбытчик знал, что идентификационный номер на сбываемом автомобиле поддельный, то решающую роль выполняет источник происхождения транспорта. То есть, если сбыт выполнен собственником, то в его действиях со- держится преступление, предусмотренное ст. 326 УК РФ. В случае если сбытчик одновременно является лицом его похитившим, то на лицо совокупность преступлений, закрепленных в ст. 158 УК РФ (или иного хищения) и ст. 326 УК РФ. Однако, если сбыт транспорта осуществлен, и источник происхождения предмета сбыта является «хищение» другим лицом, опять же, если нет предварительного сговора об этом, квалификация осуществляется по совокупности (ст. 326 и ст. 175 УК РФ) [15, с. 33]. При сбыте в подобном случае лицо обманным путем завладевает деньгами, и отсутствие у лица предварительной договоренности, не исключает наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Нельзя не коснуться еще одной точки зрения, при анализе которой подтверждается наличие неоднозначности трактования правильности квалификации. В частности, К. В. Третьяков пишет: «ранее использование поддельного документа квалифицировалось по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 и 159 УК РФ, что внешне походит на идеальную совокупность. Однако, вникнув в суть, использование поддельного документа является способом мошенничества в силу того, что виновное лицо имело корыстную цель - ввести в заблуждение. Соответственно, без деяния, подпадающего под признаки ч. 3 ст. 327 УК РФ, не будет и основного состава преступления - ст. 159 УК РФ» [2, с. 120].
Выводы и заключение
В целях проработки решений задач, поставленных настоящим исследованием по уголовно-правовой оценки сбыта транспортных средств с поддельным идентификационным номером нужно исходить из следующего критерия:
-
- знание покупателем транспортного средства природы происхождения (к примеру, гражданин приобрел по цене ниже рыночной, предполагал или заведомо знал, о не оригинальном идентификационном номере, при этом надеялся эксплуатировать не регистрируя в Госавтоинспекции или считал, что сотрудники правоохранительных органов не увидят наличие подделки, или думал, что получив отказ в регистрации сумеет в суде обязать Госавтоинспекцию зарегистрировать транспортное средство). В подобном случае деяние квалифицируется как единичное преступление, предусмотренное ст. 326 УК РФ;
-
- наличие имущественного ущерба (гражданин приобрел похищенный автомобиль с поддельным идентификационным номером, не смог воспользоваться законными правами по его эксплуатации, например, поставить на регистрационный учет). В данном случае имеет место быть идеальная совокупность (одним действием совершено два преступления). Деяние квалифицируется по ст. 326, ст. 159 и ст. 175 УК РФ, при условии наличия у субъекта знаний о преступном происхождении автомобиля. Если перед сбытом субъект произвел подделку идентификационного номера, то требуется дополнительная квалификация по ст. 326 УК РФ. Однако в доктрине есть мнение о том, что действия по подделки нескольких регистрационно-учетных номеров, исполненных разными эпизодами, включая случаи их реализации на одном автомобиле формирует совокупность преступлений, по ст. 326 УК РФ [16, с. 32]. Мы полагаем, что тут надо руководствоваться умыслом, если умысел был направлен на легализацию транспортного средства, то совершено единичное преступление, если умысел был направ-
- лен на сбыт отдельных основных компонентов транспортного средства, на которые наносится маркировка, тогда образуется совокупность преступлений.
Полагаем, что данный критерий уголовно-правовой оценки будет как способствовать решению проблем квалификации преступлений, так и сформирует дополнительные меха- низмы противодействия сбыту криминального транспорта путем создания правовой платформы для признания «добросовестного приобретателя» потерпевшим со всеми позитивными последствиями для последнего.
Список литературы Проблемы квалификации преступлений при сбыте похищенных транспортных средств
- Лопашенко, Н. А. Законодательная реформа мошенничества: вынужденные вопросы и вынужденные ответы // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. № 3 С. 504–513.
- Третьяков, К. В. Квалификация идеальной совокупности преступлений // Право и государство: теория и практика. 2015. № 4 (124). С. 118−120.
- Лебедев, А. С. К вопросу об ошибках в квалификации деяний по статье 326 Уголовного кодекса Российской Федерации // Современное право. 2014. № 4. С. 142−147.
- Лебедев, А. С. Конкуренция норм на примере ст. 175 и ст. 326 УК РФ // Проблемы правоохранительной деятельности: международный научно-теоретический журнал / Белгородский юридический институт МВД России. 2012. № 1. С. 69−71.
- Лебедев, А. С. Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ // Проблемы правоохранительной деятельности: международный научно-теоретический журнал / Белгородский юридический институт МВД России. 2011. № 1. С. 136−137.
- Лесных, А. В. Расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. 211 с.
- Шарапов, Р. Д. Архипов, А. А. Актуальные вопросы квалификации подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 УК РФ) // Уголовное право. 2010. № 2. С. 88−93.
- Филиппов, П. А. Преступления против порядка управления: закон, теория, практика: монография. М., 2017. 512 с.
- Ображиев, К. В. Правила квалификации преступлений: тенденции и перспективы развития // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 1 (45). С. 168–172.
- Бавсун, М. В., Бавсун, И. Г. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности со смешанной противоправностью // Научный вестник Омской академии МВД России. 2008. № 1(28). С. 8–11.
- Бавсун, М. В., Баландюк, В. Н., Спиридонов, А. П. Влияние прецедентных решений Верховного Суда Российской Федерации на правоприменительную деятельность // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 1 (52). С. 3–7.
- Корнеева, А. В. Теория квалификации преступлений: учебное пособие. Москва: Проспект, 2022. 112 с.
- Кауфман, А. А. Введение в теоретическую статистику. Посмерт. изд. Петроград: ЦСУ, 1923. [2], VI, [2], 558 с.
- Филиппов, А. Р. Природа корыстного поведения: криминологический и уголовно-правовой анализ // Учёные записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2021. № 4 (80). С. 88–93.
- Суворов, А. С. Особенности квалификации подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. № 1 (23). С. 30–34.
- Шарапов, Р. Д. Архипов, А. А. Юридическая квалификация подделки идентификационной маркировки или государственного регистрационного знака транспортного средства // Научный портал МВД России. 2010. № 1. С. 27−32.