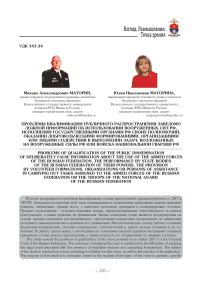Проблемы квалификации публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ или войска национальной гвардии РФ
Автор: Маторин М.А., Маторина Ю.Н.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 3 (56), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются проблемы квалификации состава преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ. Актуальность изучения этой темы подтверждается сложностями применения данной правовой новеллы, связанными, прежде всего, с наличием оценочных признаков и конкурирующих составов. Предмет исследования - уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за данное преступление, а также практика их применения. Целью написания статьи является формулировка на основе анализа признаков рассматриваемого преступления конкретных предложений по изменению уголовного законодательства и практики его применения. Методологическую основу работы составили формально-юридический, системно-структурный, статистический и другие методы познания в их сочетании. В работе сделан вывод о необходимости толкования высшей судебной инстанцией основных признаков состава данного преступления, а также вопросов его отграничения от смежных составов.
Квалификация преступлений, клевета, распространение заведомо ложной информации, заведомо ложная информация об использовании вооруженных сил рф, смежные составы
Короткий адрес: https://sciup.org/140306988
IDR: 140306988 | УДК: 343.34
Текст научной статьи Проблемы квалификации публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ или войска национальной гвардии РФ
С начала проведения специальной военной операции Вооруженных Сил РФ (далее – ВС РФ) на территории Украины информационное пространство наводнили ложные и недостоверные сведения о действиях российской армии и государственных органов. Целью большинства подобных публикаций является подрыв авторитета государственной власти в целом и ее отдельных органов, дестабилизация ситуации в стране, разобщение общества. Вольно или невольно авторы и распространители фейковой информации становятся активными участниками информационной войны против нашего государства. Все это создает реальную угрозу общественной безопасности в самом широком ее понимании как состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства.
Государство вправе защищать национальную безопасность и ее составляющую – общественную безопасность всеми законными средствами, в том числе уголовно-правовыми. Точнее, это его обязанность, которую оно реализовало путем принятия 4 марта 2022 года Федерального закона N 32-ФЗ. Закон содержал три новых преступления, связанных с проведением специальной военной операции на Украине. Мы будем говорить о ст. 207.3 УК РФ, которая изначально называлась «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Федеральным законом от 25 марта 2022 года N 63-ФЗ название и диспозиция статьи с 5 апреля 2022 года были расширены за счет включения в число мишеней ложных сведений государственных органов РФ, исполняющих свои полномочия.
Подобное уточнение вполне объяснимо и своевременно, т.к. и для проведения операции, и для устройства мирной жизни на освобожденных территориях привлекаются различные государственные органы и службы (войска национальной гвардии РФ, подразделения МВД РФ, МЧС РФ и др.).
На этом совершенствование статьи не закончилось. Примерно через год предмет преступления еще пополнился ложными сведениями об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. Что тоже вполне логично и отражает значение помощи фронту, которую оказывает население нашей страны. Кроме того, законодатель ужесточил наказание за данное преступление до 5 лет лишения свободы, переведя его в категорию преступлений средней тяжести в ч. 1 ст. 207.3 УК РФ. Правки декабря 2023 года (ФЗ N 641-ФЗ от 25 декабря 2023 года) незначительны и уточняют факт выполнения задач специальной военной операции не только ВС РФ, но и войсками национальной гвардии РФ.
Ответственность за клевету традиционно присутствовала в уголовном законодательстве нашей страны. Не углубляясь в исторический экскурс, заметим, что в действующем УК РФ содержится общая норма об ответственности за клевету (ст. 128.1. УК РФ), а также специальная – ст. 298.1 УК РФ (хотя попытки их декриминализации на современном этапе предпринимались и не безрезультатно). В УК РСФСР ответственность за распространение лжи была более разнообразной и дифференцированной. Кодекс помимо ст. 130 «Клевета» содержал, в частности, ст. 70 «Антисоветская агитация и пропаганда», а также ст. 190.1 «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй».
Таким образом, наше государство всегда старалось защитить честь и достоинство отдельных граждан, а также авторитет государственных органов и государства в целом от потока лжи. Свободное распространение недостоверных сведений противоречит идее государственности, отсюда – власть не должна терпеть распространение лжи и посягательства на свою безопасность. Слабое государство не способно защитить права и интересы своих граждан. Поэтому несостоятельными представляются доводы противников рассматриваемых законодательных новелл, которые считают, что эти нормы посягают на свободу слова. Как справедливо заметил М.А. Бакунин, «свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого».
Представляется, что включение в УК РФ ст. 207.3 является вполне обоснованным и даже немного запоздалым. Ведь проект данного Федерального закона был внесен в Государственную Думу РФ еще 14 мая 2018 года депутатами В.В. Володиным, Г.А. Зюгановым, В.В. Жириновским, С.И. Неверовым, С.М. Мироновым, И.И. Мельниковым, А.Д. Жуковым, А.К. Исаевым и членом Совета Федерации В.И. Матвиенко, прошел первое чтение, но тогда его отклонили.
Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, данная уголовно-правовая норма применяется довольно активно. В 2022 году по ст. 207.3 УК РФ были осуждены 14 человек (8 – по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, 6 – по ч. 2). В 2023 году количество осужденных выросло в 4,2 раза, до 59 (26 – по ч. 1, 33 – по ч. 2, по ч. 3 ст. 207.3 УК РФ осужденных нет), кроме это- го 7 человек были признаны невменяемыми и к ним применены принудительные меры медицинского характера.
Для сравнения: по схожим ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, введенным Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 100-ФЗ в связи с распространением фейков о СОVID-19, в 2020 году были осуждены только 5 человек, в 2021 году – 4, в 2022 году – 2, в 2023 году – 31.
Если смотреть на наказуемость данного преступления, то следует заметить, что, если в 2022 году к лишению свободы были осуждены только 2 человека, то в 2023 году – уже 30, и еще 5 – к условному лишению свободы. То есть можно сделать вывод об определенном ужесточении практики применения данной новеллы.
За несколько лет применения данной нормы практика столкнулась с рядом проблем квалификации публичного распространения подобной ложной информации. Указанные проблемы квалификации касаются как объективных, так и субъективных признаков состава данного преступления. Основные из них будут рассмотрены в рамках данной статьи.
Начнем с проблем квалификации, связанных с предметом данного преступления. Отбросив споры о том, есть ли в данном составе предмет (а это дискуссионный вопрос в уголовном праве), сосредоточимся на фактах. Для наличия признаков рассматриваемого состава преступления необходимо распространение заведомо ложной информации определенного свойства. Здесь усматриваются три проблемы: первая – определение ложности информации, второе – критерии ложности, третье – содержание информации.
Ложность информации в ст.207.3 УК РФ понимается так же, как и в клевете. «Это качество, составляющее основу любой клеветнической активности, состоит в несоответствии распространяемой информации фактам и событиям, связанным с деятельностью адресата клеветнического воздействия — индивидуальным либо «коллективным» потерпевшим» [2, с. 62-63].
Судебная практика в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» уточняет: «Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения».
На практике были примеры, когда защита пыталась замаскировать ложные сведения под «личное мнение» подзащитного, однако эти попытки закончились неудачей, были отклонены судом как несостоятельные [5, с. 57].
Вопрос с определением критериев ложности информации является более сложным. Обобщив практические материалы, профессор А.Г. Кибальник утверждает: «В судебной практике сформировалась позиция о том, что несоответствие распространяемой информации официальной позиции Минобороны РФ, а также иных федеральных органов власти само по себе является достаточным критерием установления ложного характера такой информации. В приговорах, вынесенных в особом порядке, это обстоятельство суды обычно констатируют как данность. В приговорах по делам, рассмотренным в общем порядке, обычно конкретизируется тот официальный источник (документ Министерства обороны РФ, иного федерального ведомства), которому противоречит распространенная информация» [4, с. 58-59].
Анализ уголовных дел за 2023-2024 годы показал, что правоприменитель стал подробнее описывать те документы, которым противоречат ложные сведения, распространяемые виновными. Начинается описание с основополагающих документов, касающихся проведения специальной военной операции, а затем уточняется конкретная информация из официальных источников, доступных неопределенному кругу лиц: из брифингов официального представителя Министерства обороны РФ, размещенных на официальном сайте ведомства, из заявлений руководителей иных государственных структур и т.п. Такой подход представляется правильным, т.к. признак ложности – один из основных в подобных составах преступлений.
Заметим, что смысл приводимых в приговорах формулировок заключается в том, что информация об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ не должна противоречить официальной позиции после даты ее оглашения (опубликования).
Содержание ложной информации. В теории уголовного права общепринятым является представление о том, что «ложность распространяемых сведений должна касаться только фактических данных и фактических обстоятельств» [6, с. 74-75]. Оно подкрепляется разъяснениями, содержащимися в методическом письме «Об особенностях судебных лингвистических экспертиз информационных материалов, связанных с публичным распространением под видом достоверных сообщений заведомо ложной (недостоверной) информации» (утв. Научно-методическим советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте РФ, протокол N 2 от 17 июня 2022 года): «Информация должна выражаться в форме утверждения о фактах и событиях, поскольку такой способ подачи информации позволит правомерно установить ее ложность или достоверность. Мнение о факте использования ВС РФ или оценка данного факта является признаком другого коммуникативного действия, а именно дискредитации использования ВС России»1.
Наличие в тексте «информации, выраженной в форме утверждения о фактах и событиях» – типичный вывод лингвистической экспертизы по рассматриваемым преступлениям2.
Что касается проблем квалификации, связанных с признаками объективной сторо- ны, то здесь важно проанализировать понятие «распространение» указанных сведений и публичный характер этих действий.
Наука уголовного права и практика единодушно признают, что деяние в виде распространения клеветнических сведений окончено в момент восприятия ложной информации хотя бы одним человеком (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года N 3).
Признак публичности можно истолковать с помощью ряда позиций высшей судебной инстанции, в частности, постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года N 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» (п.п. 4 и 5), постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 года N 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» (п.п. 18-22).
На практике чаще всего встречается размещение такой информации в открытых сегментах популярных социальных сетей, что создает возможность ее восприятия неопределенным кругом лиц. Как правило, это сеть «ВКонтакте». Однако были примеры совершения данного преступления в виде непосредственного обращения к широкому кругу лиц (учитель к ученикам (пензенская учительница – к восьмиклассницам, которые записали беседу на диктофон и передали запись в правоохранительные органы1), осужденного к другим осужденным (осужденный Волков распространил ложные данные среди четырех осужденных исправительной колонии N 5 в Пензенской области2) и др.
Перейдем к анализу проблем квалификации, связанных с признаками субъективной стороны. Применительно к клевете в судебной практике было указано, что заведомость знания о ложности распространяемой информации подразумевает, что уголовная от- ветственность за распространение таких сведений возможна только с прямым умыслом3. Аналогичное толкование следует использовать и для новой статьи. Отсюда – уголовная ответственность невозможна при фактической ошибке, а также добросовестном заблуждении лица, распространяющего соответствующие сведения. Причем по каждому делу следует доказывать однозначное знание лица до начала публичного распространения о том, что информация не соответствует действительности. Это сложнее сделать в случаях, когда человек ретранслирует информацию из другого источника, что является преобладающим на практике.
Здесь уместным будет привести разъяснение высшей судебной инстанции относительно еще одной новеллы. Так, в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 года, указано, что «распространение заведомо ложной информации следует оценивать с учетом условий, в которых оно осуществляется, цели и мотивов совершаемых действий (например, для того, чтобы спровоцировать панику среди населения, нарушения правопорядка), представляет реальную общественную опасность и причиняет вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности».
Представляется, что высшая судебная инстанция должна прокомментировать наиболее существенные проблемы квалификации рассматриваемого преступления и в первую очередь истолковать субъективные признаки.
Еще один неоднозначный вопрос, требующий экспертного пояснения Пленума Верховного Суда РФ, - содержание квалифи-нируюшего признака использования лином своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Так, по делу в отношении преподавателя, которая на уроке перед учениками распространила недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ, суд отмечает: «Действия Г. ошибочно квалифицированы органом предварительного следствия как совершенные лицом с использованием своего служебного положения. По смыслу закона к лицам, использующим свое служебное положение, относятся, в частности, должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ. Органом предварительного следствия в предъявленном обвинении не изложено, какие служебные полномочия использованы Г. при совершении преступления; в судебном заседании также не установлено, что Г. при совершении вышеописанных действий действовала как лицо, подпадающее под признаки, предусмотренные примечанием 1 к ст. 285 УК РФ либо примечанием 1 к ст. 201 УК РФ, и использовала свои служебные полномочия. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым исключить из обвинения Г. квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку он не нашел своего объективного подтверждения в ходе судебного разбирательства»1.
В приведенном решении суд руководствуется общепринятым представлением о данном отягчающем обстоятельстве. Однако по ряду преступлений (ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ) Верховный Суд РФ использует более широкое толкование, включив в перечень специальных субъектов не только должностных лиц и служащих, выполняющих управленческие функции в коммерческих или иных организациях, но и лиц, которым выполнение определенных трудо- вых обязанностей облегчает совершение данного преступления2.
В литературе высказывается мнение, что этот квалифицирующий признак «по делам об обманных преступлениях не может быть сведен лишь к категории субъектов по смыслу примечаний к ст. 201 УК РФ и ст. 285 УК РФ и должен иметь расширительное толкование в зависимости от иных обстоятельств» [7, с. 25]. Представляется, что столь широкое толкование не вполне согласуется с общественной опасностью данного преступления. Однако очевидно одно – требуется разъяснение высшей судебной инстанции по данной проблеме.
Последнее, на что хотелось обратить внимание в рамках данной статьи, – это проблема отграничения составов преступлений, предусмотренных ст. 207.3 УК РФ, от смежных составов, прежде всего от «общеуголовной» клеветы. Здесь юридическая мысль содержит две противоположные точки зрения. Одни авторы считают, что при направленности действий в отношении конкретного человека данные нормы не соотносятся между собой как конкурирующие. Соответственно, в случае распространения заведомо недостоверных порочащих сведений о физическом лице, которое сопряжено с обманом относительно деятельности ВС РФ, содеянное при наличии на то оснований образует идеальную совокупность преступлений, предусмотренных ст. 128.1 УК РФ и ст. 207.3 УК РФ [7, с. 26].
Другая, более приемлемая, на наш взгляд, точка зрения гласит, что «норма ст. 207.3 УК является специальной по отношению к ч. 2 ст. 128.1 УК. Специализация в данном случае имеет место по двум главным критериям: 1) конкретизированный адресат публичного распространения заведомо ложной информации; 2) «целевая деятельность» Вооруженных Сил РФ» [2, с. 64].
В правоприменительной практике иногда это становится предметом спора. Так, по одному из дел осужденный, изготовивший и рас- клеивший листовки рядом с местом жительства лица, принимающего участие в СВО, ссылался на то, что никаких сведений, компрометирующих сотрудников ВС РФ, он не распространял, а выразил свое мнение о конкретном человеке, к которому имел личную неприязнь, что может расцениваться как личное оскорбление или клевета, но не дискредитация ВС РФ в целом. Суд, справедливо отвергая эти доводы, указал, что об умысле на публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные именно о ВС РФ, свидетельствует утверждение в листовках о том, что Ф. является военным преступником и убийцей детей, т.е. совершает преступления в процессе военных действий, которые проводятся ВС РФ. Также виновный использовал на листовках символы Z и V, которые хотя и не являются официальными символами ВС РФ, однако наносятся на военную технику Министерства обороны РФ, задействованную в специальной военной операции1.
Еще одним смежным составом для ст. 207.3 УК РФ является деяние, предусмотренное ст. 280.3 УК РФ. Составы введены одновременно и имеют много общего: одни и те же «адресаты», публичный характер совершаемых действий. Однако есть у них и отличия: разный объект преступления; в ч. 1 ст. 280.3 УК РФ установлена административная преюдиция, но основное отличие кроется в деянии. В методическом письме «Об особенностях комплексных психолого-лингвистических судебных экспертиз информационных материалов, связанных с публичной дискредитацией использования ВС РФ», утвержденном Научно-методическим советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте РФ (протокол N 2 от 17 июня 2022 года) говорится, что дискредитацией следует считать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета и значения в связи с использованием ВС РФ и исполнением государственными органами РФ своих полномочий в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Если распространено ложное утверждение о факте, то речь может идти о преступлении, предусмотренном ст. 207.3 УК РФ. Если же высказывается негативное мнение о действиях ВС РФ, государственных органов и других структур, тогда это будет оцениваться на предмет дискредитации и вменять надо ст. 280.3 УК РФ (учитывая, конечно, признаки данного состава, в том числе административную преюдицию в ч. 1). Совокупность здесь невозможна [1, с. 100; 3, с. 57]. Статья 207.3 УК РФ более полная и более общественно опасная, может поглощать деяния, составляющие сущность дискредитации (распространение фейков с целью подрыва доверия и т.п.).
На основании вышеизложенного можно констатировать, что ст. 207.3 УК РФ прочно закрепилась в уголовном законодательстве России, «обрастает» судебной практикой, к ней начинают применяться иные институты уголовного права, призванные обеспечить наказуемость данного негативного явления. Так, с 25 февраля 2024 года законодатель расширил перечень статей, по которым возможно применение конфискации имущества (Федеральный закон от 14 февраля 2024 года N 11-ФЗ). Этот список, в частности, пополнился ст. 207.3, 280.4, если они совершены из корыстных побуждений. А с 25 февраля 2024 года расширено применение такого наказания, как лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград (Федеральный закон от 14 февраля 2024 года N 11-ФЗ) за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207.3, ст. 280, 280.1, ч. 1 ст. 280.3, ч. 1 ст. 280.4, ч. 1 ст. 282, ст. 282.4, ч.ч. 1 и 2 ст. 284.1, ст. 284.2, 284.3, 354.1 УК РФ. Вместе с тем практика применения рассматриваемой нормы свидетельствует о наличии ряда спорных моментов при квалификации данного преступления, которые целесообразно минимизировать путем принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ, касающегося проблем квалификации составов преступлений, предусмотренных ст. 207.3 УК РФ.
Список литературы Проблемы квалификации публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ или войска национальной гвардии РФ
- Дулькина, Л.В. Публичное распространение "фейков" об использовании Вооруженных Сил РФ и исполнении государственными органами РФ своих полномочий: сложности доктринального понимания / Л.В. Дулькина // Вестник юридического факультета ЮФУ. - 2022. - Т. 9. - N 3. - С. 97-101. EDN: ANJSYJ
- Кибальник, А.Г. Уголовная ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил РФ. Как применять новую статью УК / А.Г. Кибальник // Уголовный процесс. - 2022. - N 4. - С. 62-69. EDN: TWGBGW
- Кибальник, А.Г. Ответственность за распространение фейков об использовании армии и госорганов РФ. Квалифицированные виды и отличие от дискредитации / А.Г. Кибальник // Уголовный процесс. - 2022. - N 7. - С.50-57. EDN: ULECUF
- Кибальник, А.Г. Ответственность за распространение фейков об армии: выводы из практики / А.Г. Кибальник // Уголовный процесс. - 2023. - N 7. - С. 56-61. EDN: DUCDCS
- Пичугин, С.А. Уголовная ответственность за деяние, предусмотренное ст. 207.3 УК РФ: вопросы регламентации и правоприменения / С.А. Пичугин // Legal Bulletin. - 2023. - N 3. - С. 53-63. EDN: TPASFZ
- Уголовное право. Т. 2. Особенная часть. / отв. ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. - 5-е изд. - М.: Юрайт, 2020. - 499 с.
- Шипунова, М.Н. О квалификации распространения недостоверных сведений о Вооруженных Силах Российской Федерации / М.Н. Шипунова // Российский следователь. - 2024. - N 3. - С.23-25. EDN: AQQLNT