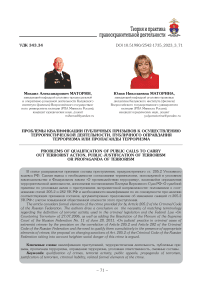Проблемы квалификации публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма
Автор: Маторин М.А., Маторина Ю.Н.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (52), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ. Сделан вывод о необходимости согласования терминологии, используемой в уголовном законодательстве и Федеральном законе «О противодействии терроризму», касающейся определения террористической деятельности, дополнения постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» положением о соотношении статей 205.2 и 282 УК РФ и необходимости квалификации по их совокупности при наличии соответствующих признаков составов, аргументировано предложение об изменении санкций ст.205.2 УК РФ с учетом повышенной общественной опасности этого преступления.
Квалификация преступлений, террористическая деятельность, публичные призывы, пропаганда терроризма, оправдание терроризма, уголовная ответственность, смежные составы
Короткий адрес: https://sciup.org/140301191
IDR: 140301191 | УДК: 343.34 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_3_71
Текст научной статьи Проблемы квалификации публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма
Н орма об ответственности за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2) появилась в УК РФ после ратификации нашим государством Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.). Однако новелла уголовного законодательства оказалась значительно шире, чем положения данной Конвенции, в ч. 1 ст. 5 которой говорится о публичном подстрекательстве к совершению конкретного террористического преступления, в то время как в ст. 205.2 криминализированы публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в целом.
Анализируя практику применения указанной нормы, можно заметить, что число осужденных по ст. 205.2 УК РФ постоянно растет. Например, с 2010 г. по 2022 г. это количество увеличилось более чем в 100 раз (2010 г. – 2 человека, в 2022 г. – 233 осу-жденных)1. В том числе существенно увеличивается число осужденных за квалифицированный вид данного преступления, что связано с естественными причинами активного проникновения в нашу жизнь информационно-телекоммуникационных технологий. Например, в 2021 г. количество осужденных по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ – 29, а по ч. 2 – 170, в 2022 г. по ч. 1 – 41, а по ч. 2 – 233. Наблюдается также увеличение примерно на 40% количества осужденных по анализируемой статье за 2022 г. по сравнению с предыдущим годом, что напрямую связано с проведением Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины и вновь присоединенных субъектов и, как следствие, повышением террористической активности.
Если смотреть на наказуемость данного преступления, то следует заметить, что, несмотря на альтернативный характер санкции, в ней предусмотрены только два возможных вида наказаний: штраф и лишение свободы на определенный срок (в ч. 1 – до 5 лет, в ч. 2 – от 5 до 7 лет), что вызывает вопросы, так как самый мягкий вид наказания, во-пер- вых, предусмотрен за тяжкое террористическое преступление (ч. 2 ст. 205.2. УК РФ), во-вторых, получается сомнительная альтернатива, нарушающая равноправие граждан: если у человека есть возможность уплатить довольно большой штраф (ч. 1 – от 100 000 руб., ч. 2 – от 300 000 руб.), то он останется на свободе, если нет – то ему назначат одно из самых суровых наказаний, причем в соответствии с п. «а1» ч. 1 ст.73 УК РФ оно не может быть условным, т.к. это преступление террористического характера. Проиллюстрируем наши выводы статистическими данными. По информации Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2022 году по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ к реальному лишению свободы приговорены 35 человек (из 41 осужденного), к штрафу – 6, по ч. 2 – к реальному лишению свободы – 75 человек (из 233 осужденных), к штрафу – 153, у пяти в наказание был зачтен срок содержания под стражей или домашний арест. На основании приведенных выше доводов представляется целесообразным в санкции ч. 1 ст. 205.2 УК РФ в качестве альтернативы лишению свободы предусмотреть не только штраф, но и, например, принудительные работы на срок до 5 лет. А в санкции ч. 2 ст. 205.2 УК РФ штраф как основное наказание исключить и сделать санкцию относительно определенной, что больше будет согласовываться с общественной опасностью данного преступления и его отнесением к категории тяжких.
Вопрос о непосредственном объекте публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания и пропаганды терроризма в специальной литературе решается неоднозначно. Исследуемый объект является специфическим компонентом общественной безопасности (как видового объекта данного преступления в силу нахождения в главе 24 раздела IX УК РФ), вобравшим в себя условия самого существования общества, затрагивающим глубинные интересы в сфере обеспечения безопасных условий жизни личности, общества и государства. Его можно опреде-
1 Судебная статистика // Судебный департамент при Верховном Суде РФ Сайт:URL:
№ 3(52) •2023
лить как основы общественной безопасности , особенность которых состоит в том, что они включают совокупность общественных отношений по обеспечению неприкосновенности жизни и здоровья граждан, общественного спокойствия, имущественных интересов физических и юридических лиц, нормальной деятельности государственных и общественных институтов [подр.: 5].
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, характеризуется следующими альтернативными действиями: 1) публичные призывы к осуществлению террористической деятельности; 2) публичное оправдание терроризма; 3) пропаганда терроризма.
Определение террористической деятельности дается в п. 2 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и включает в себя не только реализацию терактов, но и различные варианты содействия террористической деятельности, организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, пропаганду, оправдание терроризма и т.д.
В примечании 2 к ст. 205.2 УК РФ сказано, что «под террористической деятельностью понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205-206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ». Сравнение данных нормативных положений позволяет сделать вывод, что уголовно-правовое определение террористической деятельности шире понятия, сформулированного в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ. Это – давняя проблема несогласованности терминологии в УК РФ и комплексном законе, посвященном противодействию терроризму, а также отсутствия понятия и перечня преступлений террористического характера на уровне законодательства, в то время как для обозначения определенного вида преступлений его использование вполне целесообразно и в науке, и на практике.
1 В Приморье осудили иностранца за призыв к терроризму // Комсомольская правда: сайт. URL: (дата обращения: 27.02.2023).
Рассмотрим поочередно каждое из действий, составляющих обязательный признак объективной стороны этого преступления. Толкование понятия публичных призывов предложено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1: «Под публичными призывами к осуществлению террористической деятельности в статье 205.2 УК РФ следует понимать выраженные в любой форме (например, в устной, письменной, с использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической деятельности». Важным является тот факт, что публичность призывов связана с обращением именно в двум и более лицам, в противном случае речь должна идти о преступлении, предусмотренном ч. 1.2 ст. 205.1 УК РФ. Высшая судебная инстанция в упомянутом выше постановлении предлагает оценивать наличие данного признака «с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (например, обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, распространение обращений путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи и т.п.)».
В качестве примера анализируемого варианта действий, составляющих объективную сторону этого преступления, можно привести следующее дело. Судебная коллегия по уголовным делам Дальневосточного окружного военного суда признала виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, иностранного гражданина за то, что он на своей странице в социальной сети «разместил материалы для публичного ознакомления, содержащие побуждения к джихаду с использованием террористов-смертников, а также признание практики терроризма правильной и нуждающейся в поддержке. Как установлено в судебном заседании, данная информация преследовала цель побудить читателей к осуществлению деятельности, связанной с распространением и утверждением ислама насильственным путем»1.
https://
Определение публичного оправдания терроризма дается в примечании 1 к ст. 205.2 УК РФ. Под ним понимается «публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». При этом под идеологией и практикой терроризма понимается «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий»1.
Здесь уместно привести слова А.А. Кунa-шева, который справедливо указывает, что общественная опасность призывов состоит в том, что «они продуцируют террористическую активность, готовят почву для совершения новых преступлений», в то время как «публичное оправдание терроризма направлено на то, чтобы вызвать сочувствие, симпатию к террористам, придать им ореол героев, борцов за правду, свободу, «чистоту веры» и пр., обосновать целесообразность и правильность их преступного поведения, которое заслуживает поддержки и подражания» [2].
Эти действия могут быть выражены в форме прямого высказывания в местах массового скопления людей, а также завуалированного оправдания террористов в фильмах, художественных произведениях и т.п.
Интересной формой публичного оправдания терроризма являются действия имама московской мечети М.А. Велитова, который в сентябре 2013 г. устно выразил оправдание члена группировки «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенной в Российской Федерации) Абдуллы Гаппаева (в возбуждении уголовного дела в отношении которого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и ст. 278, ч. 1 ст. 282.2 и ч. 1 ст.205. 1 УК РФ, отказано в связи со смертью). По оценке суда, оправдание совершено при произнесении им проповеди, в том числе заупокойной молитвы о погибшем Гаппае- ве, касающейся его личности и деятельности как члена запрещенной в России террористической организации. М.А. Велитов был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ2. После чего он обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, ст. 8 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и рядом норм УПК РФ, однако Конституционный Суд РФ не нашел оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению (определение от 29.05.2018 N1390-О).
По конструкции объективной стороны состав данного преступления является формальным. Пленум Верховного Суда РФ разъясняет: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (часть 1 статьи 205.2 УК РФ) считаются оконченным преступлением с момента публичного провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось побудить других граждан к осуществлению террористической деятельности или нет. Публичное оправдание терроризма образует состав оконченного преступления с момента публичного выступления лица, в котором оно заявляет о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания». Но в теории уголовного права рассматривают и иную версию. Например, В.Л. Кудрявцев считает, что преступление имеет усеченный состав [1]. Однако вряд ли здесь можно усмотреть основной признак усеченного состава – перенос законодателем момента окончания на стадию приготовления к преступлению или покушения на преступление в силу повышенной общественной опасности. Отсюда формальный характер состава представляется наиболее правильным вариантом характеристики данного преступления.
Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. N 445-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму» в статью 205.2 УК РФ было введено понятие « пропаганда терроризма », а в примечании 1.1 отражена его сущность: «Под пропагандой терроризма следует понимать деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности». Необходимость подобного дополнения диспозиции анализируемой нормы появилась давно, но актуализировалась в связи с событиями в Сирии. По мнению первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева, «после серьезных потерь международные террористические организации направят все силы и средства на вербовку новых людей, и пропаганда станет их главным оружием»1.
Данный вариант действий в объективной стороне рассматриваемого преступления имеет определенную специфику в сравнении с первыми двумя. Во-первых, при пропаганде не требуется установления признака публичности, ответственность будет наступать и за действия, направленные на формирование идеологии терроризма даже у одного лица. Во-вторых, в отличие от публичных призывов пропаганда – это совокупность действий, деятельности, преследующей обозначенные цели. Однократное действие, высказывание, комментарий в соцсетях не дадут следствию и суду основания вменять лицу в вину признак пропаганды этого опасного социально-правового явления.
В качестве примера можно привести решение Судебной коллегии по делам военнослужащих, которая квалифицировала действия С. по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправ- дание терроризма, пропаганду терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Интерес представляет данное судом описание действий осужденного, разместившего на своей странице «ВКонтакте» соответствующие материалы, подпадающие под признак пропаганды терроризма: «Эксперты… установили, что в материале второго комментария утверждается сверхзначимость идеи стремления к смерти мусульман, содержится позитивная оценка мусульман, погибших на джихаде, пропагандируется ценность роли шахида, содержится негативная оценка немусульман, говорится о сверхценности идей борьбы против «неверных» и о необходимости воспитания детей в традициях этой борьбы.
Как следует из показаний свидетеля Ш., он неоднократно обсуждал с С. размещенные им в сети Интернет публикации… Таким образом, изложенные в приговоре действия С., форма и содержание размещенных им в сети Интернет в свободном доступе публикаций… в совокупности свидетельствуют о том, что он не только совершил публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, но и осуществил деятельность по распространению материалов, направленных на формирование идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности, то есть совершил пропаганду терроризма»2.
Очень ценным с точки зрения толкования термина «пропаганда» является следующее разъяснение по конкретному уголовному делу, нашедшее отражение в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 2020 год: «Согласно примечанию 1.1 к ст. 205.2 УК РФ действия лица, пропагандирующего терроризм, направлены на лиц, у которых идеология терроризма и убежденность в ее привлекательности не сформированы, а представление о допустимости осуществления террористической деятельности отсутствует. Именно в возможности изменения мировоззрения лиц, на которых направлена пропаганда терроризма, заключается общественная опасность данного преступления.
В свою очередь, лица, у которых названная идеология сформирована, убеждены в ее привлекательности и допускают осуществление террористической деятельности, не могут являться участниками данных правоотношений, поскольку эта система взглядов и идей сформирована не субъектом данного конкретного преступления и до него»1.
В ч. 2 ст. 205.2 УК РФ в качестве отягчающего ответственность обстоятельства предусмотрено совершение этого преступления с помощью средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Данный квалифицирующий признак последнее время активно используется для конструирования квалифицированных составов, так как это существенно расширяет аудиторию охвата лиц, к которым адресованы обращения в так называемых «призывных» преступлениях, а также указанные средства облегчают совершение ряда преступлений и позволяют виновным избегать уголовной ответственности в ряде случаев.
Если преступление совершено с использованием сетевых изданий, не зарегистрированных в качестве СМИ в установленном порядке, то содеянное квалифицируется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ как деяние, совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.
Особе внимание Верховный Суд РФ в своем постановлении уделяет моменту окончания данного квалифицированного вида преступления: «Преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.2 УК РФ, связанные с использованием средств массовой информации, следует считать оконченными с момента распространения продукции средств массовой информации (например, продажа, раздача периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, начало вещания теле- или радиопрограммы, демонстрация кинохроникальной программы, предоставление доступа к сетевому изданию).
При совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности или публичного оправдания терроризма путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи или с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, преступление следует считать оконченным с момента размещения обращений в указанных сетях общего пользования, отправления сообщений другим лицам»2.
Субъектом преступления , предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, является физическое, вмeняемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Проблемы при квалификации по признаку субъекта появляются, когда автором «призывной» или содержащей пропаганду или оправдание терроризма информации является один человек, а распространяет ее другой. Одни ученые таких лиц предлагают признавать соисполнителями анализируемого преступления, другие рассматривают в качестве исполнителя только лицо, которое распространило информацию, а ее автора предлагают признавать пособником [4]. Высшая судебная инстанция, как указывалось выше, также связывает окончание анализируемого преступления именно с распространением соответствующей информации. На основании изложенных аргументов более верной видится вторая точка зрения, которая косвенно подтверждается международными документами. В частности, ст. 5 Конвенции Совета Европы «О предупреждении терроризма» определяется публичное подстрекательство как «распространение или иное представление», в то время как создание информации не входит в данное понятие.
Субъективная сторона публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма характеризуется виной в форме прямого умысла. Мотивы и цели преступника значения для квалификации не имеют.
Серьезной проблемой квалификации любого преступления является отграничение от смежных составов. Не является исключением и ст. 205.2 УК РФ. Вызывает вопросы ее соотношение со ст. 280 УК РФ . В соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. N 11 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в силу предписаний части 3 статьи 17 УК РФ подлежат квалификации не по статье 280 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств дела по части 1 или части 2 статьи 205.2 УК РФ»1. То есть налицо конкуренция общей и специальной нормы.
Однако на практике встречаются более сложные случаи, когда лицо одновременно призывает и к экстремистской, и к террористической деятельности либо оправдывает терроризм или пропагандирует идеологию терроризма. В такой ситуации действия виновного должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 280 УК РФ и соответствующей частью ст. 205.2 УК РФ.
В подтверждение обозначенного нами тезиса приведем пример из практики: «Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ рассмотрела уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката осужденного А.Б.Д. на приговор Северо-Кавказского окружного военного суда от 19 июля 2018 г., по которому он был приговорен по ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Судом было установлено, что 13 апреля 2016 г.
А.Б.Д., действуя на почве религиозной вражды, разделяя идеологию радикального ислама, с целью ознакомления неограниченного круга лиц на общедоступной странице одной из социальных сетей разместил два текстовых материала, один из которых содержал публичное оправдание терроризма, а второй – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, к вооруженной борьбе против группы лиц, выделенной по религиозному признаку. При этом он осознавал экстремистскую направленность размещенного материала и действовал в целях ознакомления с ним неограниченного круга лиц и формирования у них желания вступить в такую борьбу»2.
Иначе «взаимодействуют» ст. 205.2 и 282 УК РФ. Они уже не соотносятся как общая и специальная нормы, поэтому не могут конкурировать между собой. Если лицо не только публично призывает к осуществлению террористической деятельности, но еще и публично совершает действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, его действия, при наличии указанных в ч. 1 или 2 ст. 282 УК РФ признаков следует квалифицировать по совокупности ст. 205.2 и ст. 282 УК РФ. Подобные разъяснения можно встретить на практике3.
Могут возникнуть проблемы разграничения деяний, квалифицируемых по ст. 280.1 и 205.2 УК. По предложению Генеральной прокуратуры РФ Пленум Верховного Суда РФ дополнил п. 6.2 постановления N 11 новым разъяснением о применении ст. 280.1 УК РФ и разрешении вопроса о ее конкуренции со ст. 205.2 УК РФ. Так, именно ст. 205.2, а не ст. 280.1 УК РФ подлежит применению в случаях, когда призывы касаются насильственного захвата власти, насильственного удержания власти, насильственного изменения конституционного строя государства, а равно вооруженного мятежа, имеющих своей целью нарушение целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации.
«В разъяснении в п. 6.2 приняты во внимание положения ч. 3 ст. 4 Конституции РФ, согласно которым в основы конституционного строя Российской Федерации входит обеспечение целостности и неприкосновенности территории государства. Разъяснение также учитывает положения п. 2 примечаний к ст .205.2 УК РФ, относящие действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя России (ст. 278 УК РФ), а также вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) к объему понятия террористической деятельности, к осуществлению которой публично призывают лица, совершающие преступления, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ», – отмечают С.В. Борисов и Е.В. Пейсикова [3].
В заключение можно сделать следующие выводы.
-
1. Необходимо устранить давнюю проблему несогласованности терминологии в нормах УК РФ и комплексном законе о противодействии терроризму, касающейся определения террористической деятельности, так как разный объем наполнения одного и того же понятия порождает коллизии норм права и ведет к сложностям правоприменения. В развитие этого вопроса следует указать и на отсутствия понятия и перечня преступлений террористического характера на уровне законодательства, в то время как для обозначения определенного вида преступлений его использование вполне целесообразно и в науке, и в практической деятельности.
-
2. Санкции ч. 1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ нуждаются в совершенствовании с учетом повышенной общественной опасности данного преступления и соблюдения принципа справедливости.
-
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. N 11 следует дополнить пунктом, в котором (по аналогии с п.п. 5 и 6.2) указывалось бы на соотношение ст. 205.2 и ст. 282 УК РФ и на необходимость квалификации их по совокупности при наличии соответствующих признаков составов преступлений.
Список литературы Проблемы квалификации публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма
- Кудрявцев, В.Л. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма": некоторые вопросы теории и практики / В.Л. Кудрявцев // Таможенные чтения - 2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Том II / под общ. ред. профессора А.Н. Мячина. - СПб., 2012. - С. 104-112.
- Кунашев, А.А. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма: уголовно-правовой анализ и вопросы квалификации / А.А. Кунашев // Уголовное право. - 2018. - N 6. - С. 81-89.
- Пейсикова, Е.В. Освобождение от наказания, уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности и преступления несовершеннолетних: новые позиции Пленума ВС РФ / Е.В. Пейсикова, С.В. Борисов // Уголовный процесс. - 2021. - N 12. - С. 68-74.
- Тарбагаев, А.Н. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ): проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации / А. Н. Тарбагаев, Г. Л. Москалев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. - 2016. - N 2. - С. 28-39.
- Фоменко, Е.В. Правовые основы противодействия терроризму. Уголовно-правовой и криминологический аспекты: учебное пособие / Е.В. Фоменко, Ю.Н. Маторина. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 186 с.