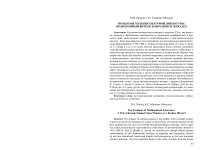Проблемы мультикультурной литературы: полихромный витраж или разбитое зеркало?
Автор: Никола Марина Ивановна, Толкачев Сергей Петрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
Крушение колониальных империй в середине ХХ в., как известно, привело к образованию пространства на территории порабощенных в прошлом стран, качественного нового в экзистенциальном и эпистемологическом смыслах. Такое пространство стало именоваться постколониальным представителями оформившейся в 1970-1980 гг. теории постколониализма (Э. Саид, Х. Бхабха, Г. Спивак и т.д.), и это новое понятие предложило более глубокое понимание таких фундаментальных проблем, как миграция и маргинальность, гибридность и новая государственность, переходная идентичность и гетероглоссия. Важная тема творчества писателей бывших колоний затрагивала оппозицию между западной и традиционными, местными культурами. Так постепенно вызревал феномен, который получил название мультикультурной литературы, которая предполагает, главным образом, гетерогенную репрезентацию культурной идентичности. Новая мультикультурная литература отражает атмосферу полиэтнической среды, которая дарует возможность жить бок о бок представителям разных национальностей с их культурной множественностью, а также неизбежность формирования гибридной идентичности, дающей уникальный шанс не только выходить за пределы границ своего этнического наследия, но и развивать личность в рамках многообразного исторического опыта. Среди мультикультурных авторов - лауреаты Букеровской (С. Рушди, А. Десаи, К. Десаи, А. Гош) и Нобелевской (В. Найпол, Д.М. Кутзее, К. Исигуро, А. Гурна), других престижных литературных премий мира, что доказывает востребованность произведений этих писателей как у рядовых читателей, так и у литературоведов и критиков.
Мультикультурная литература, постколониализм, гибридная идентичность, глобализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149139971
IDR: 149139971
Текст научной статьи Проблемы мультикультурной литературы: полихромный витраж или разбитое зеркало?
В постколониальный период писатели, освободившихся от колониального ига стран, обретают новые голоса, осваивают радикально иные повествовательные техники, которые позволяют им создавать аутентичный палимпсест жизни своих народов и героев в пространстве своей родины, подорванной колониализмом, либо в изгнании, на чужбине, в эмиграции. Многим мастерам словесного творчества из Индии, Африки, стран Кариб-ского бассейна приходится переезжать в те самые метрополии, которые в свое время посылали военную силу для осуществления политики колонизации их родных стран. Одна из главных тем творчества этих писателей затрагивает темы мультикультурного пространства, в котором происходит столкновение между родными, традиционными культурами и привнесенной извне западной системой ценностей [East, Thomas 2007; Caton 2008; Multicultural Literature and Response 2011; Multiculturalism, Multilingualism and the Self 2017]. Такие писатели существуют словно между двумя вселенными, принадлежа одновременно обеим и ни одной из них. Но в силу того, что чаще всего писать о своем мироощущении им приходится на языке Империи, образное пространство их словесных произведений приобретает качества мультикультурности, гибридности, гетероглосени.
Понятия мультикультурализма и мультикультурности находится в центре жарких дискуссий, что позволяет говорить об их положительных и отрицательных сторонах. Так, С. Фиш в одном из самых серьезных на сей день исследований о мультикультурализме проводит различие между мультикультурализмом, по его определению, сильным и «бутиковым». Сильный мультикультурализм, по его мнению, - это политика различий, и она сильна, потому что ценит различия сами по себе, а не как проявление чего-то иного, например, толерантности, которую уже можно называть достаточно универсалистской. «Бутиковый» мультикультурализм, в свою очередь, - более уязвим, потому что, хотя «“бутиковые” мультикультуралисты любят, ценят и радуются, сочувствуют другим культурам или, по 88
крайней мере, признают их легитимность», они «всегда будут останавливаться перед их принятием в точке, где некие ценности в глубине их души вступят в конфликт с чем-то «иным» в рамках привычного им мировоззрения» [Fish 1995, 60].
В гуманитарных науках распространено мнение, что необходимо различать мультикультурализм как философскую проблему и как демографическое понятие. В любом случае невозможно отрицать, что проблема многокультурности, многоязычия и гибридного сознания в литературе и культурологии связана с вопросами идентичности, целостности личности и разнообразия. Действительно, политический мультикультурализм не раз подвергался нападкам как устаревшее понятие или как опасно наивная, антипросвещенческая либеральная доктрина, которая якобы поощряет экстремизм. Этот понятие критиковали как не способствующее разнообразию и «созданию сегментированного общества и фиксированных идентичностей, к чему он предположительно и мог бы вести» [Malik 2009, 70]. В то же время сторонники политического мультикультурализма защищали его каждый раз с новой силой и рвением, заявляя, что неудачные примеры осуществления этой стратегии - отнюдь не причина, чтобы его отвергать [Modood, 2005]. В последнее время продолжаются споры о том, существовал ли вообще политический мультикультурализм, о котором так много было сказано и написано [Lentin, Titley 2011].
В любом случае в области культуры и, прежде всего, литературы, опыт писателей-мигрантов в современной Британии, которая превратилась в мультикультурный универсум, способствовал серьезным изменениям в общественно-политической реальности. Так, сам факт того, что писатели мультикультурной направленности - В. Найпол, Дж. Кутзее и К. Исигуро - уже в новом тысячелетии становились лауреатами Нобелевской премии (соответственно в 2001, 2003 и 2017 гг), говорит сам за себя. Не стал исключением и прошедший, 2021 г, когда премия была присуждена еще одному писателю из мультикультурного «цеха», британскому прозаику танзанийского происхождения Абдулразаку Гурне.
В центре творчества нового лауреата - проблема расщепленной идентичности человека, обретающего в эмиграции новую, не всегда дружелюбную по отношению к нему родину, что стало темой таких романов Гурны, как «Память прощания», «Путь пилигрима» и «Дотти». О судьбе человека, который уезжает из Занзибара (а писатель как раз и родился на одном из островов этого архипелага) в Британию, где становится учителем и создает семью, повествует роман «Наслаждаясь тишиной». В английском приморском городке происходит действие одного из последних произведений Гурны - романа «Прощай, море», также затрагивающего проблемы идентичности мигрантов, сюжет которого основывается на встрече двух героев, некогда покинувших Занзибар. И в каждом из своих произведений писатель воссоздает мультикультурный хронотоп, в пространстве которого существует личность с сознанием, как в сказочном зеркале, рассеченном на множество осколков, в которых порой гармонично, а иногда искаженно отражаются факты истории, культуры, этнической психологии, гибридного языка, состоящего из лексем английского, арабского и суахили.
Многие мультикультурные африканские писатели акцентируют внимание на оппозиции традиционного, идущего из глубины веков, и современного, связанного с реалиями второй половины ХХ-нач. XXI вв. Поэма «Песнь Лавино» угандийского поэта О.П’Битека (1931-1982), первоначально написанная на языке ачоли, а потом переведенная на английский самим поэтом, вошла в число ста лучших африканских книг XX в. В поэме воплощен мультикультурный топос города и деревни. Африканка по имени Аколи высмеивает своего мужа за его роман с женщиной, любительницей всего западного. В своем ответе муж («Песня Окола») с ностальгией вспоминает прошлое и горько сетует на то, что постколониальный идеал свободы, прежде всего экономической, так и не был реализован. Здесь П’Битек идет по стопам своего компатриота по «черному» континенту, нигерийского прозаика и поэта Ч. Ачебе (1930-2013), первого среди африканцев, который, чтобы быть понятым в глобальном пространстве, решил рассказывать Западу сюжеты о колониальной истории на английском. О нигерийской глубинке в момент прихода завоевателей повествует роман «И пришло разрушение» (в оригинале - «Things Fall Apart», 1958). Ачебе далек от того, что до прихода белых страна жила в некоем Эдеме. Тем не менее, пафос ключевого произведения нигерийского писателя в том, что англичане были не в праве разрушать древние нигерийские традиции. В результате насилия со стороны западного «культурного» человека распалась связь времен.
Современная английская литература, создаваемая писателями индийского происхождения, зачастую изображает исторические ценности и традиции древней страны, которые сталкиваются с вновь принятыми европейскими ценностями, в том числе, английским языком, который стал «лингва франка» Индийского субконтинента, причем все чаще встречаются сюжеты о том, что герои-индийцы в иммигрантской европейской среде влачат жалкое существование, которое можно назвать «полужизнь». Роман с таким названием вышел из-под пера нобелевского лауреата 2001 г. В. Найпола, британского писателя индо-тринидадского происхождения. Писатель, мультикультурная идентичность которого была сформирована тремя культурами, английской, индийской и тринидадской, исследует состояние постколониальной, маргинальной личности, изгоя. Найпол всю жизнь вел поиск самого себя в мультикультурном лабиринте, в трудных скитаниях между Востоком и Западом, «подвешенный», как он выражался, между Англией, Индией и Карибами. В многочисленных автобиографических работах Найпол пишет историю своего собственного архетипического постколониального опыта.
Многие выдающиеся индийские и пакистанские писатели, эмигрировавшие с субконтинента по экономическим или политическим причинам, а также их потомки становятся гражданами той страны, которая в прошлом являлась колониальной метрополией. Один из самых известных мультикультурных авторов индо-пакистанского происхождения, британский писатель С. Рушди в своем творчестве анализирует проблемы диссонанса между глобальной Европой, Америкой и постколониальным пространством, что порождает у героев его произведений чувство безвременья, проблему самоидентификации, свойственную мигранту, человеку, «пойманному» между двумя мирами. Это отражается в стилистических и композиционных приемах, используемых писателем в прозе, что как раз и отражает состояние пограничья между миром реальности и фантазии. Точка зрения многих его героев органично связана с процессом гибридизации и мультикультурного стремления к децентрализации, что реализуется в жанре «магического реализма», в рамках которого писатель предпочитает творить. Действие одного из последних романов С. Рушди «Золотой дом» (2017) происходит в Нью-Йорке. Это не только постколониальное по своей сути произведение, но и текст, насыщенный постмодернистской поэтикой в том смысле, что использование аллюзий на образы мировой литературы и культуры, многочисленные отсылки к художественным произведениям всех времен и народов, помещенные в один ряд с выдержками из современных печатных и электронных СМИ, превращают этот роман в сложное интертекстуальное произведение. В «Золотом доме» можно найти множество скрытых цитат из Шекспира, Эсхила, Софокла, древнеримской литературы, а рядом с ними соседствуют отсылки к глобальной поп-культуре вперемешку с сенсационными новостями из СМИ, например, о побеге из миннесотской тюрьмы особо опасных убийц. А между тем, на манхэттенских улицах звучит индийская музыка, в которую вплетаются мотивы представителей многих народов, населяющих этот муль-тикультурный универсум. В этом смысле подобная литература прибегает к творческой интерпретации столкновений между дискурсом истории и ее вымышленной аллегорией. Например, в «Детях полуночи» эта коллизия воплощена во всеобъемлющей метафоре «чатнификации», связанной с гротескными приключениями главного героя Салима. Универсальный соус чатни, используемый в Индии в качестве маринада, позволяет всем составным частям нового продукта пропитываться вкусом друг друга и образовывать некий новый, универсальный вкус, что наглядно демонстрирует понимание Салманом Рушди феноменов мультикультурности и гибридности. Еще один, недавно вышедший в свет роман С. Рушди «Господин Кишот» (2019), - также образец постколониальной прозы, которой свойственна гибридная этнокультурная образность, сплавляющая воедино парадигмы английского, американского, индийского и испанского. Здесь британский писатель продолжает традицию ироничных метатекстовых пародий на «Дон Кихота» Сервантеса.
По мнению исследователя X. Бхабхы, Рушди, раскрывая тему гибридности в своих произведениях «Сатанинские стихи», переводит непереводимое и придает существованию мигранта высшую степень амбивалентности [Bhabha 1994, 225]. В то же время исследователь определяет гибридность как незаконченную зону пограничья, которая консолидиру- ет диаспорные связи мигрантов [Bhabha 1994, 139]. Роман Рушди «Последний вздох Мавра», в свою очередь, проецирует карнавальный образ многослойных идентичностей на метафорическое чувство сожаления о потере и изгнании, чей барочный символ представлен хронотопом Бомбея, города, который, как отмечал писатель в своей очерковой книге «Воображаемая родина» [Rushdie 1992], всегда выступал за мультикультурализм и космополитическую идентичность. Другие исследователи, например, А. Айджаз [Aijaz 2013] рассматривают творчество Рушди в терминах гротескного представления о мире. Иными словами, мультикультурная и постколониальная позиция писателя, по всей видимости, сливается здесь с плюрализмом постмодернизма.
Важно попутно заметить, что для мигранта крайне необходимо найти пространство для создания идентичности, которое могла бы вместить то, чем он когда-то был и чем должен быть сейчас - личность, находящаяся где-то посередине. И воплощаются такие личности в «пограничных» повествованиях, текстах «неполного значения» или гибридных произведениях, порожденных промежуточными пространствами, в которых обсуждаются «становящиеся» контуры диаспорной идентичности. Так, образ мультикультурного пространства представлен в англоязычном творчестве кубинской писательницы К. Гарсиа, и, в частности, в ее романе «В мечтах кубинцев» (1992). Временные и пространственные границы произведения очень зыбкие: действие произведения происходит то в Гаване, то в Бруклине (писательница в свое время эмигрировала в США), то в Санта-Тереза-дель-Мар; время текуче, то и дело меняет свои координаты - читатель попадает то в 1930 гг. прошлого века, то в 1990 гг. Раздробленная пространственная и временная структура текста нарушает концепт настоящего, создавая эффект непрерывной трансформации, которая позволяет героине вспоминать не только прошлое, но и будущее.
На протяжении всего повествования главная героиня Пилар находится в конфликте со своей матерью Лурдес, человеком, любящим строгие правила и границы и все упрощающим, но в мечтах Пилар общается со своей ушедшей из жизни любимой бабушкой Селией, и эти грезы способны пересекать все границы. Пилар говорит о своей матери: «Мамины приукрашивания и полуправда обычно позволяют ей рассказать хорошую историю. И ее английский, ее иммигрантский английский, имеет оттенок чуждости, что делает его непреднамеренно точным. В конце концов факты не так важны, как лежащая в их основе правда, которую они до нас доносят. Говорить свою собственную правду - это главный принцип для мамы, даже если это происходит за счет того, чтобы избавиться от нашего прошлого» [Garcia 1993, 177].
Само же повествование в романе не переписывает историю и не восстанавливает прошлое, но затрагивает темы изгнания и памяти в контексте до - и послереволюционной Кубы и американского «проекта» в отношении этой страны. Пилар, анархистка, панк-художница, вспоминает свою бабушку через занятия живописью по возвращении на Кубу. Она использу- ет свой любимый синий цвет как метафору бесконечно сложных оттенков, граней и мотивов бытия, из которых строится текст - череда бесконечных становлений личности, которые никогда не заканчиваются, непрерывно рассказывая и создавая различия способами, выводящими каждого героя за пределы его самого в процессе метаморфоз: «В основном я рисую бабушку в синем цвете. Я никогда не понимала, как много существует синих оттенков. Аквамарины у береговой линии, лазурь более глубоких вод, прозрачная голубизна под глазами моей бабушки, хрупкие индиго вен на кистях ее рук. В изгибах ладоней тоже есть синева, и на краях слов, которые мы произносим, голубой оттенок песка, ракушек и чаек на пляже. Родинка у рта бабушки тоже голубая, исчезающе голубая...» [Garcia 1993, 233].
Синий становится цветом тайны, символом скрытых и невыразимых смыслов, но, прежде всего, чего-то недосказанного, невыразимого. Персонажи разделяют одни и те же пространства, но по-разному: мать Пилар живет американской мечтой изгнанника, в то время как сама девушка мечтает на «кубинском» (культурный опыт, переданный как некий условный язык) и, в конечном счете, на испанском. Католицизм семьи перемежается с другими запретными в социалистической Кубе духовными традициями, особенно западноафриканскими практиками, гибридными или креолизо-ванными, доносящими из глубин сознания темные пережитки рабства, и колониального, и совсем недавнего. Эллегуа, бог перекрестков, становится одним из многих хиазмических, пограничных символов, пронизывающих весь текст.
Пилар пересекает границы - в буквальном и метафорическом смысле - и бросает вызов упрощенным взглядам на жизнь своей матери, испытывая на прочность Америку и Кубу: «Я думаю, что миграция подавляет аппетит», - говорит Пилар, угощаясь засахаренным бататом. - «Возможно, когда-нибудь я вернусь на Кубу и решу есть только рыбу и шоколад» [Garcia 1993, 173]. В характере Пилар есть гибкость и мобильность, которых лишены мигранты первого поколения, запертые в пространстве своей неудачной судьбы - ни кубинцы, ни американцы, они являют собой несовершенные версии обоих этносов.
В последние десятилетия появляются произведения, в которых также предстает образ мультикультурного пространства, но уже в столице бывшей империи, в Лондоне: «Белые зубы» 3. Смит и «Брик Лейн» М. Али -оба произведения оказались феноменально успешными. Сюжет романа А. Леви «Маленький остров» (2004) сосредоточен на жизни диаспоры ямайских иммигрантов, которые, спасаясь от экономических трудностей на своем собственном «маленьком острове», переезжают в Англию, за которую мужчины сражались во время Второй мировой войны. Действие романа «Лондонстан» Г. Малкани (2006) разворачивается в лондонском районе Хаунслоу, а его главный герой - молодой человек по имени Джас, член банды сикхов и индуистской молодежи, - влюбляется в мусульманскую девушку. Примечательно, что зачастую такие произведения не превозносят Лондон как некий мультикультурный рай, - вариант, который, как правило, ожидает коммерческий успех и приятие критики, - а, напротив, ставят под сомнение благотворность такой мультикультурности. Так, роман «Другая рука» К. Клива (2008) рассказывает о несчастном и одиноком африканском мигранте, искателе убежища в Лондоне; «Пиджин Инглиш» С. Келмана (2011) - хроникальное повествование о реальном случае, гибели десятилетнего нигерийского мальчика Дамилолы Тейлора в 2000 г. (последнее произведение было включен в шорт-лист Букеровской премии).
Таким образом, мультикультурная литература представляет собой крайне перспективное направление в современной мировой литературе, поскольку именно на ее полях происходит выработка тех важнейших стратегий мирного сосуществования наций, культур и традиций, за которыми современная политика не поспевает. Одновременно образ мультикуль-турного пространства в романах постколониальных писателей оказывает творческое воздействие на сознание читателей, заставляя их задумываться над зачастую обезличенными парадигмами глобального искусства, альтернативой которому может быть пиршество полиэтнических культур.
Список литературы Проблемы мультикультурной литературы: полихромный витраж или разбитое зеркало?
- Aijaz A. In Theory: Classes, Nations, Literatures // Postcolonial Criticism / eds. Moore-Gilbert B., Stanton G., Maley W. London, New York: Routledge, 2013. Р. 248-269.
- Bhabha H. The Location of Culture. London, New York: Routledge, 1994. 408 p.
- Caton L.F. Reading American Novels and Multicultural Aesthetics. London: Palgrave Macmillan, 2008. 265 p.
- East K., Thomas R.L. Across Cultures. A Guide to Multicultural Literature for Children. Westport, Conn. London: Libraries Unlimited, 2007. 343 p.
- Fish S. "Boutique Multiculturalism" // Multiculturalism and American Democracy / eds. Melzer A.M., Weinberger J., Zinman M.R. Minneapolis, Minnesota University Press, 1995. P. 69-88.
- García C. Dreaming in Cuban. New York: Ballantine Books, 1993. 245 p.
- Lentin A., Titley G. The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age. London: Zed Books, 2011. 285 p.
- Malik K. From Fatwa to Jihad: The Rushdie Affair and its Legacy. London: Atlantic Books, 2009. 463 p.
- Modood T. Multicultural Politics: Racism, Ethnicity and Muslims in Britain. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005. 240 p.
- Multicultural Literature and Response / eds. Smolen L.A., Oswald R.A. Santa Barbara, Denver, Oxford: Libraries Unlimited, An Imprint of Abc-Clio, Llc., 2011. 453 p.
- Multiculturalism, Multilingualism and the Self: Literature and Culture Studies / eds. Drong L., Mydla J., Poks M. New York: Springer International Publ., 2017. 198 p.
- Rushdie S. Imaginary Homelands. London: Granta Books, 1992. 439 p.
- Said E.W. Culture and Imperialism. New York: Knopf, 1993. 380 p.
- Spivak G.C. The Post-Colonial Critic. Interviews, Strategies, Dialogues. New York: Routledge. 1990. 168 p.