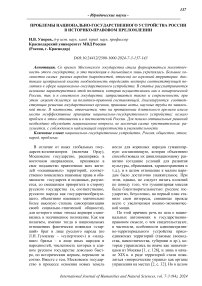Проблемы национально-государственного устройства России в историко-правовом преломлении
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 7-3 (94), 2024 года.
Бесплатный доступ
Со времен Московского государства стала формироваться полиэтничность этого государства, и эта тенденция в дальнейшем лишь укреплялась. Большое количество самых разных народов (народностей, этносов) на огромной территории диктовали центральной власти необходимость определять векторы соответствующей политики в сфере национально-государственного устройства. В статье рассматриваются основные характеристики этой политики, которая осуществлялась как в монархической России, так и в советском государстве, затрагивается также и современность, при этом акцент делается на политико-правовой составляющей. Анализируются соответствующие решения государственных органов, правовые акты, научные труды по заявленной теме. В частности, отмечается, что на протяжении длительного времени имели место неэффективные принципы национально-государственного устройства; немало проблем в этом отношении и в постсоветской России. Для поиска оптимальных решений необходимо обсуждать национальные вопросы, не исключая самые чувствительные, разумеется, с соблюдением надлежащей корректности и уважительности.
Национально-государственное устройство, Россия, общество, этнос, народ, проблема
Короткий адрес: https://sciup.org/170206358
IDR: 170206358 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-7-3-137-143
Текст научной статьи Проблемы национально-государственного устройства России в историко-правовом преломлении
В отличие от иных глобальных государств-колонизаторов (включая Орду), Московское государство, расширяясь в восточном направлении, принимало в свое подданство практически всех жителей «осваиваемых» территорий, соответственно появлялись взаимные права и обязанности государств и поданных, разумеется, со смещением приоритета в сторону русского государства (и, соответственно, русского народа как государствообразующего, объективно имевшего значительно более высокую степень самоорганизации своей социально-этнической общности), для которого иные этносы априори становились в подчиненное положение. Как мы полагаем, именно тогда в национальных отношениях фактически появился «старший» брат в лице русского народа (по Л.Н. Гумилеву - «суперэтнос») и «младшие» братья - в лице иных народов и народностей, численность которых в едином русском государстве довольно быстро, по историческим меркам, перевалит за сотню. Вместе с тем, Московское государство в процессе освоения новых земель несло для коренных народов гуманитарную составляющую, которая объективно способствовала их цивилизационному развитию (создание условий для развития культуры, образования, здравоохранения и т.д.), и в целом отношение к малым народам было достаточно уважительное. При этом, однако, не следует питать иллюзий по поводу того, что гуманитарная миссия была благотворительностью: русское государство, безусловно, на первый план ставило свои интересы, связанные прежде всего с увеличением военно-экономической мощи.
По этой причине речь не шла о национальных автономиях в государственноправовом смысле, о чем свидетельствуют, в частности, особенности административно-территориального устройства присоединяемых территорий (таковые (воеводства, наместничества, губернии и др.), которые управлялись не иначе как назначенцами из Москвы [1, с. 126], и лишь в начале XIX в. в ряде территорий стали появляться «инородческие управы» как органы управления на местах [2, с. 32]. Но в целом с самого начала формирования российской политэтичности территорией всего государства и всеми отдельными ее частями централизованно управляли представители в основном русской нации. И вообще длительное время в условиях абсолютной монархии вопрос о правах этносов в многонациональном Московском государстве, а затем и в Российской империи, не поднимался. В значительной степени это было обусловлено, на наш взгляд, двумя основными факторами. Во-первых, сами нерусские этносы не претендовали на более высокий статус, чем тот, который имели. Более того, ряд территорий с одноэтносным населением (Украина, Грузия и др.) стремились войти в состав русского государства с целью обеспечения своей безопасности от внешних сил, и это, разумеется, делалось потому, что к тому времени (XVII век) русское государство уже обладало огромным потенциалом и имело не международной арене репутацию страны-защитницы. Во-вторых, в России разделение поданных по разных народам и народностям не имело какого-либо существенного значения, поскольку статус человека, помимо социального происхождения, определялся его вероисповеданием, и в этом смысле все православные считались русскими, независимо от фактической этнической принадлежности.
Более того, издавались законы, ставившие представителей коренных народов и народностей («инородцев») в приниженное положение (с точки зрения современных ценностей), и в данном контексте политическая оценка царизма как «тюрьмы народов», которую давал лидер большевиков Ленин в начале ХХ в., имела под собой основания. Для представителей народов и народностей их самобытность как территории с населением определенного этноса, выражалась, по сути, лишь в констатации царскими чиновниками в разного рода докладных записках об их существовании, количестве населения, предметах деятельности и т.д., а также обозначении на картах. Как видно, имела место не более чем социально-бытовая автономия фактического обособленного проживания этого населения на определенной территории.
Вместе с тем Россия выстраивала новое, уже многонациональное пространство, с учетом «политического веса» присоединяемых территорий.
В частности, тем включенным в состав российского государства народам, уже обладавшим определенными признаками государственного образования (те же Украина, Грузия, а также Польша, Финляндия и др.), предоставлялась некоторая политическая автономия. В этой связи следует заметить, что в XIX в. в рамках начавшего активно развиваться международного права вопрос о праве наций на самоопределение уже был поставлен в повестку дня. И это, на наш взгляд, вполне объяснимо: любой народ всегда находятся в динамическом развитии, как и в целом человеческое сообщество, и наступает момент, когда народ, находящийся в зависимости от иной внешней политической (и тем более военной) силы, достигает состояния общественного сознания, определяемого стремлением к национальной независимости (в частности, в том же столетии это было проявлено в Латинской Америке). Разумеется, при этом имеют большое значение общецивилизационные тенденции, которые могут выступать (и выступают) в качестве катализатора в развитии национальных движений (в данном случае речь идет о провозглашении демократических принципов европейских буржуазных революций, остающихся до сих пор актуальными). Однако указанное обстоятельство правящей элитой России не было взято в должное внимание, ее представители, очевидно, не сомневались в незыблемости абсолютизма как формы государственного правления, равно как полагали, что признание многочисленными народами своего подчинённого положения перед русским народом (точнее - перед публичной властью, формируемой на основе русского представительства) будет продолжаться бесконечно.
И это наблюдалось даже на рубеже XIX-ХХ вв., когда буржуазно-демократические институты активно распространялись во многих странах, в том числе, хотя и с меньшей интенсивностью, и в самой России. А между тем самосознание наро- дов (этносов) России в силу естественносоциальных причин поднималось на всё более высокий уровень. Конечно, общецивилизационное развитие многочисленных народов России было (и остаётся до сих пор) существенно разным, и соответственно притязания национальных элит, представлявших таковые от имени народов, тоже различались. И наиболее активные в этом отношении народы заявили о претензии на национально-политическую самостоятельность практически сразу же после февральской революции 1917 г., когда в России на некоторое время были провозглашены и реально предоставлены демократические свободы во многих сферах жизни. А после Октябрьской революции 1917 г. советская власть, как известно, в рамках борьбы с «русским шовинизмом» провозгласила право народов России на самоопределение.
При такой политике, казалось бы, для ряда российских этносов, обладавших большей самоорганизацией, наступило время освобождения из «тюрьмы народов» и появились возможности начать развитие с гораздо большей политической автономией, а то и вовсе в качестве самостоятельных государств. Особенно наглядно это проявилось в отношении башкирского народа, где сформировалось национальное движение, ставившее цель национальногосударственной автономии, и такая цель в результате очень сложных взаимоотношений представителей башкирского народа с советской властью и Уфимской директорией была в итоге достигнута в виде соглашения о создании Автономной Башкирской Советской Республики, сходящей в состав РСФСР [7]. Однако национальный вопрос для большевиков не был важнейшим, и имел значение прежде всего как эффективный пропагандистский ход в деле подготовки всемирной социалистической революции, которую должен быть совершить мировой пролетариат, для чего пролетарии всех стран и народов должны были соединиться против общего для всех эксплуататорского класса.
Такой подход теоретически нивелировал национальную составляющую в составе «мирового пролетариата». Так, в 1923 г.
Сталин в довольно циничной форме охладил пыл энтузиастов национального возрождения: «Следует помнить, что, кроме права народов на самоопределение, есть ещё право рабочего класса на укрепление своей власти, и этому последнему праву подчинено право на самоопределение … право на самоопределение не может и не должно служить преградой делу осуществления права рабочего класса на свою диктатуру … Не следует поэтому забывать, что, раздавая всякие обещания националам, расшаркиваясь перед представителями национальностей … следует помнить, что сфера действия национального вопроса и пределы, так сказать, его компетенции ограничиваются при наших внешних и внутренних условиях сферой действия и компетенцией «рабочего вопроса» как основного из всех вопросов» [8, с. 273].
Собственно, и раньше Ленин ещё до 1917 г. отмечал, что «мы безусловно, при прочих равных условиях, за централизацию и против мещанского идеала федеративных отношений» [4, с. 109]. Но и при указанном цинизме, не будем забывать, советская власть активно развивала национальные окраины, разумеется, не от душевной щедрости, а от необходимости иметь сильное общее союзное государство. В дальнейшем «рабочий вопрос» вместе с мировой революцией перестал быть актуальным, социалистическая (коммунистическая) идея, завлекательная сама по себе и теоретически фундаментально разработанная, оказалась нежизнеспособной, она угасла, а вместе с ней угас и СССР, и не просто угас, а был разрушен.
Тем не менее, на наш взгляд, национальные отношения в советском государстве для многочисленных этносов развивались в целом в позитивном направлении. И хотя право союзных республик на свободный выход из СССР, закрепленное во всех союзных конституциях (Конституциях СССР 1924, 1936, 1977 гг.), не стало препятствием для формирования де-факто централизованного государства, народы СССР имели возможности не только для дальнейшего развития своей автономизации, но и формирования условий для по- лучения национально-государственного суверенитета. Вместе с тем исходные проблемы национального характера по-прежнему не решались. Речь идет прежде всего о статусе русского народа. «Великая Русь», которая, согласно гимну СССР, сплотила навеки союз нерушимый республик свободных (мы полагаем, что в самой фразе - «навеки», «свободных» - уже содержалось неразрешимое противоречие), становилась все более виртуальной - где она, Великая Русь? В РСФСР? Но РСФСР тоже была полиэтнической, и в ней не выделялись никакие русские территории, в отличие от выделения территорий с титульными этносами (в первой половине 1920-х гг. попытка создать Русскую республику была пресечена советской правящей элитой). Многочисленные области и края лишь по умолчанию, негласно, считались русскими, и они не были субъектами федерации в составе РСФСР, а национальные автономные республики были. Государственным языком провозглашался русский язык, но статус русского народа определен не был. И при этом одновременно, опять же по умолчанию, презюмировалось превосходство русского «старшего брата», ибо в «русской» Москве на все маломальские ответственные должности союзного значения назначались преимущественно лица русского происхождения, а в национальных территориях такие назначения формально осуществлялись местными элитам, но опять же «под присмотром» Москвы. Такого рода вопросы, очень сложные и очень чувствительные в многонациональном государстве, в СССР публично обсуждать не было принято.
И в этом контексте партийно-советская правящая элита, как и до нее правящая элита Российской империи, предполагала, что создавшееся положение обречено существовать в веках, не учитывая того, что все народы и народности находятся в непрерывном развитии, которое с неизбежностью предполагает наступление этапов качественного изменения национального сознания. Об этом, в частности, свидетельствует, и тот факт, что к рубежу 1991 г. после известной горбачевской «перестройки», все без исключения бывшие со- юзные республики стали самостоятельными государствами, то есть национальные движения в союзных республиках получили свою реализацию на высшем национально-политическом уровне. И сейчас, спустя почти тридцать лет после распада СССР, все бывшие союзные республики уверенно сохраняют и укрепляют свой национально-государственный суверенитет, «обратного хода» нет и, похоже, не предвидится. Что же касается бывшей «малой» Федерации, ныне Российской Федерации, то проблемы, связанные с национальным фактором, остаются еще более актуализируются.
Так, в 1990-х гг. национально-государственные отношения определенным образом были проявлены и обострены (прежде всего, это касалось Чечни, а также Татарстана, Башкортостана). Разработчики Конституции РФ 1993 г. сумели найти компромисс, позволяющий поддерживать федеративный статус-кво - в том смысле, что и титул национальных республик сохранился, и русскоязычные края (области), получили равноправный с республиками статус субъектов Федерации. Но остается открытым вопрос о том, долговечен ли такой компромисс. Далее, нет ясности в том, какова же общая цель существования столь многонационального государства, где представители русской национальности (абсолютное большинство населения) как не имели, так и не имеют организационно-государственных атрибутов; это опять синдром «великорусского шовинизма» или это необходимость, без которой федерация может быть поколеблена? Далее: как быть с субъектами Федерации, которые изъявят желание выйти из состава Федерации?
Дело в том, что Конституция России обходит этот вопрос, но, как показывает история (как отечественная, так и зарубежная), рано или поздно он возникает, и к нему нужно быть готовым и, на наш взгляд, должно быть выработано вполне определенное правовое решение на уровне Конституции либо на уровне Конституционного Суда, учитывая, что «современная коллизия международно-правовых основ в вопросе о соотношении права наций на самоопределение и необходимости сохранения целостности государств … все больше ориентируют международное сообщество в сторону поддержки грядущих сецессий и нуллификаций» [3, с. 58]. В литературе указывается также на необходимость «преодоления негативных последствий асимметрии российской федеративной модели» [6, с. 47].
Так, по-прежнему, как и в империи, как и в СССР, не определен статус русского этноса. В России русских, по последней переписи населения, почти 80%. Но где же их государственно-территориальная атрибутика? Ее нет. Официальные документы, регулирующие национальные отношения, не дают ответов ни на эти, ни на многие другие злободневные вопросы национальных отношений. Так, в принятой в 2013 г. ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» указывалось, что в числе «ключевых проблем в сфере состояния межэтнических отношений в современной России … сложное социокультурное самочувствие русского народа, неудовлетворённость его этнокультурных потребностей». Однако с 1 января 2017 г. данный акт утратил свою силу. В Концепции государственной национальной политики РФ (1996 г.) отмечалось, что «благодаря объединяющей роли русского народа на территории России сохранились уникальное единство и многообразие, духовная общность и союз различных народов … Межнациональные отношения в стране во многом будут определяться национальным самочувствием русского народа, являющегося опорой российской государственности. Потребности и интересы русского народа должны в полной мере найти отражение в федеральных и региональных программах, постоянно учитываться в политической, экономической и культурной жизни республик и автономных образований Российской Федерации» [9]. Однако, и этот акт в конце 2012 г. также был отменен.
В 2016 г. была утверждена поныне действующая государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» [5].
За прошедшее время многие подпрограммы этой Программы утратили силу (в их числе «Русский язык и языки народов России», «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России» и др.), утратил силу и сам паспорт данной Программы. В оставшейся части Программы указывается, в частности, что «Современное российское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской Федерации, в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру. Этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия являются достоянием многонационального народа Российской Федерации (российской нации), служат укреплению российской государственности и дальнейшему развитию межнациональных (межэтнических) отношений» [5]. Как видно, здесь упоминается русский народ и говорится о необходимости сохранении русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнациональных отношений.
И вместе с тем в Программе указывается на проблему, связанную с «оттоком русского и русскоязычного населения из регионов Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [5], а эта тенденция означает, что в указанных районах соответственно увеличивается доля жителей, относящихся к титульному для этой территории этносу. Как оценивать эту тенденцию с точки зрения дальнейшего развития национальных отношений в России? Вопрос остается открытым. Здесь же отметим привычную много лет фразу в гимне России, где повторяется советская формулировка о «вековом» союзе «братских народов» - как будто не было выхода союзных республик из СССР, который тоже объявлялся «наве- ки», как будто народы России не развиваются и не «взрослеют». При этом согласно конституционным поправкам-2020 в Конституции России вновь (после Конституции РСФСР 1978 г.) появилось упоминание о русском народе как о «государствообразующем» народе. Но в этой же ч. 1 ст. 68 говорится о союзе «равноправных» народов; очевидно, здесь имеется некоторое противоречие (заметим также, что если в Конституции РСФСР 1978 г. гарантировалось всем народам «свободное самоопределение», то в действующей сейчас Конституции России такого положения нет.
Как представляется, наличие и не решение указанных проблем и коллизий пока- зывает непоследовательность, определенную растерянность правящей элиты России и в целом российской интеллигенции по «русскому вопросу» (на этот счет имеются публикации, в том числе показывающие ожесточенную дискуссионность этого вопроса [10, 11, 12, 13 и др.]), и, соответственно, в целом некоторую тупиковость государственной национальной политики на современном этапе, которая, по
(федеральное министерство по делам национальностей, созданное еще в 1990е гг., было потом упразднено). Мы полагаем, что в сфере национальных отношений не должно быть запретных тем для общественного их обсуждения, в том числе по вопросу об изменении национальногосударственного устройства страны, поскольку сохранение старой модели (национально-титульные республики и иные субъекты Федерации, не являющиеся таковыми), на наш взгляд, не отвечает потребностям российского общества, и может усложнить и без того непростые национальные отношения. В этом контексте, очевидно, целесообразно все же отказаться от заложенного большевиками приорите- та национального признака в развитии российского федерализма, поскольку, как показывает наша же отечественная история, равно как история других стран (СФРЮ, ЧССР), это не дает необходимой устойчивости государственно-правовых отношений. В любом случае поиск оптимальных решений требует спокойного обсуждения и займет, вероятно, немало времени. Но этот поиск уже давно пора сути, пущена на самотек под прикрытием начать.
национально-пропагандистских лозунгов
Список литературы Проблемы национально-государственного устройства России в историко-правовом преломлении
- Бакшеев А.И., Филимонов В.В., Ноздрин Д.А. Административно-территориальная политика Российской империи в Сибири // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2019. - № 4. - С. 124-128.
- Гергилев Д.Н., Дуреева Н.С. Особенности административно-территориального положения России в начале XIX века (на примере Сибири) // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2017. - № 2. - С. 30-33.
- Левчук С.В. Политические коллизии правовых основ государственного устройства США // История государства и права. - 2015. - № 19. - С. 53-58.
- Ленин В.И. О национальной гордости великороссов // Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 26. - М.: Госполитиздат, 1973. - С. 106-110.
- Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 (ред. от 28.02.2024) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.03.2024 г.).
- Синцов Г.В. Принцип равноправия объединившихся в федерацию субъектов как основополагающий принцип немецкого федерализма // Международное публичное и частное право. - 2017. - № 4. - С. 45-47.
- Соглашение Центральной советской власти с Башкирским Правительством о Советской Автономной Башкирии (утв. постан. ВЦИК от 23.03.1919 г.) // СУ РСФСР. 1919. 46. Ст. 451.
- Сталин И.В. Заключительное слово по докладу о национальных моментах в партийном и государственном строительстве на XII съезде РКП(б) 25 апреля 1923 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 5. - М.: ОГИЗ, 1947. - С. 264-275.
- Указ Президента РФ от 15.06.1996 N 909 «Об утверждении Концепции государственной национальной политики Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.04.2019 г.).
- Лексин В.Н. Русская цивилизация и русский народ // Журнал Института Наследия. -2018. - № 2 (13). - С. 18-25.
- Ачкасов В.А. Зачем русским статус «государствообразующего народа» // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. - 2022. - Т. 18. № 2. - С. 215-224.
- Аршин К.В. Русские как «государствообразующий народ» или «государствообразующий народ» как русские (ответ на статью В.А. Ачкасова «Зачем русским статус «госу-дарствообразующего народа»?») // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. - 2023. - Т. 19. № 2. - С. 333-348.
- Севастьянов А.Н. Русский народ в правовом поле современной России // Вопросы национализма. - 2021. - № 1 (33). - С. 83-101.