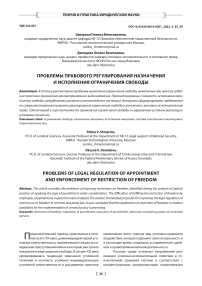Проблемы правового регулирования назначения и исполнения ограничения свободы
Автор: Шмарион Полина Вячеславовна, Демидова Оксана Васильевна
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 4 (70), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены проблемы назначения ограничения свободы, выявленные при анализе судебной практики применения рассматриваемого вида наказания. Проанализированы сложности исполнения ограничения свободы сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций. Авторами сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования ограничения свободы в уголовном и уголовно-исполнительном праве. Сделан вывод о перспективности применения ограничения свободы в современных условиях реализации уголовной политики.
Ограничение свободы, назначение наказания, исполнение наказания, система электронного мониторинга подконтрольных лиц
Короткий адрес: https://sciup.org/14127002
IDR: 14127002 | УДК: 343.847 | DOI: 10.47629/2074-9201_2022_4_35_39
Текст научной статьи Проблемы правового регулирования назначения и исполнения ограничения свободы
Продолжительный период, практически в течение всего XX века, доминирующей мерой уголовной ответственности, применяемой к лицам за совершение преступлений любых категорий, выступало наказание в виде лишения свободы. В начале XXI века сформировалась тенденция изменения уголовной политики в контексте усиления индивидуализации уголовной ответственности и расширения практики применения всего спектра мер уголовно-правового воздействия, которая сохраняет свою актуальность и в настоящее время, отражаясь в современной судебной и правоприменительной деятельности.
Поэтому среди основных направлений реализации уголовно-исполнительной политики в отечественной правовой системе в соответствии с концептуальными доктринальными нормативными документами релевантной является проблема исполнения условно именуемых «пробационными» видов уголовных наказаний, к которым можно отнести и ограничение свободы.
Следует отметить, что рассматриваемое наказание не может конкурировать по степени значимости с условным осуждением, обязательными или исправительными работами (по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2017-2021 годах удельный вес осужденных к ограничению свободы составил лишь 4,9-5,1 % от общего количества осужденных), но профилактический потенциал указанной меры наказания ничуть не уступает иным «пробационным» мерам ответственности.
Институт ограничения свободы был введен в практику применения с 10 января 2010 года, однако до настоящего времени существуют определенные сложности при назначении данного вида наказания судами, возникающие в результате неверного применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, несовершенства действующего уголовного законодательства.
Во-первых, при назначении наказания в виде ограничения свободы возможны ошибки, связанные с неправильным определением судом сроков ограничения свободы, назначаемого в качестве основного или дополнительного наказания, возникающие в связи с нарушением очевидных пределов, установленных уголовным законом. Так, по делу осужденных по ч. 2 ст. 105 УК РФ С. и У. суд назначил ограничение свободы в качестве дополнительной меры наказания на срок три года. Вышестоящая инстанция приговор изменила, снизив срок с трех лет до двух лет [1].
Во-вторых, возможны ситуации неверного установления в приговоре суда ограничения на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования.
Так, при назначении ограничения свободы в качестве основного вида наказания, суд должен определить территорию, которую осужденному запрещается покидать без согласия уголовно-исполнительной инспекции (далее – УИИ). При этом если населенный пункт включает в себя несколько муниципальных образований, то суд вправе установить соответствующие ограничения в пределах территории такого населенного пункта. В том случае, если населенный пункт входит в состав муниципального образования, то ограничения устанавливаются в пределах территории муниципального образования, а не населенного пункта (п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»).
Например, при назначении наказания в виде ограничения свободы на Я. была возложена обязан- ность не выезжать за пределы города Сортавала. Судебная коллегия была вынуждена внести изменения в приговор в части конкретизации муниципального образования, заменив его на территорию Сортавальского городского поселения. Поскольку город Сортавала является административным центром городского поселения, в состав которого дополнительно входят одиннадцать поселков, суд неправомерно ограничил осужденного, ухудшив его положение, так как территория города республиканского значения меньше территории муниципального образования в виде городского поселения [2]. Следовательно, ограничив осужденного вопреки требованиям УК РФ пределами города, суд нарушил его права.
В-третьих, возможны случаи неправильного установления судом обязанности являться для регистрации в УИИ.
Так, в соответствии ч. 1 ст. 53 УК РФ суд должен в приговоре указать конкретное число явок осужденного в течение месяца в УИИ.
Но в судебной практике не всегда выполняется данное требование уголовного закона. Так, по делу К. при назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд не возложил на осужденного обязанность явки в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием данного вида наказания, а также не установил очередность явки для регистрации, в связи с чем указание на назначение данного вида наказания из приговора вышестоящей инстанцией исключено [3].
По нашему мнению, подобные ошибки применения уголовного закона в судебной практике обусловлены отсутствием единообразного правового регулирования схожих институтов уголовной ответственности: ограничения свободы и условного осуждения. Поскольку при исполнении условного осуждения в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (далее – УИК РФ) в ч. 4 и ч. 6 ст. 188 указана обязанность осужденного являться по вызову УИИ и возможность УИИ установить периодичность явки для осужденного, указание на отсутствие необходимости установления данного требования к поведению осужденного в приговоре суда формализовано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 58.
В-четвертых, в некоторых приговорах присутствуют неточности при установлении ограничений и обязанностей осужденных к ограничению свободы.
В приговоре должны быть конкретизированы все ограничения, применяемые к осужденному. Например, в приговоре по делу Ц. не был установлен период обязательного присутствия осужденного в месте его постоянного проживания. Уточнение этого ограничения осуществил Верховный Суд РФ, указав период – с 22.00 до 06.00 часов [4].
Стоит отметить, что согласно положениям уголовного закона и разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ суд не вправе устанавливать осужденному ограничения и обязанности, не указанные в УК РФ. Однако в приговорах встречаются подобные ограничения, например, «не нарушать общественный порядок, пройти добровольно курс лечения от алкогольной зависимости» и др. [5, с. 36]
На наш взгляд, необходимо перечень ограничений и обязанностей, формализованный в ч. 1 ст. 53 УК РФ сделать открытым, расширив полномочия суда, предоставив возможность устанавливать в каждом конкретном случае дополнительные требования к поведению осужденного, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправлению.
Кроме того, в качестве обязательного следует закрепить установление ограничения в виде применения системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ), которое в настоящее время реализуется по постановлению начальника УИИ и применяется не ко всем осужденным к ограничению свободы в связи с недостаточной обеспеченностью оборудованием некоторых УИИ. Закрепление требования об обязательном применении СЭМПЛ позволит конкретизировать карательный компонент наказания в виде ограничения свободы и отграничить его от иной меры уголовной ответственности – условного осуждения.
В-пятых, можно отметить нарушение судами требования о неприменении ограничения свободы в отношении определенных категорий лиц, формализованных в уголовном законе (ч. 6 ст. 53 УК РФ).
Например, при анализе судебной практики нами были установлены случаи назначения ограничения свободы лицам без гражданства [6; 7].
Вынуждены констатировать, что при исполнении ограничения свободы УИИ претерпевают существенные трудности, обусловленные несовершенством уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и «погрешностями» сформировавшейся практики его применения.
Во-первых, следует обратить внимание на отсутствие взаимопонимания с судебными органами при рассмотрении представлений сотрудников УИИ о необходимости увеличения количества ограничений, возлагаемых на осужденного, или о замене наказания. Указанные проблемные ситуации обусловлены как общей тенденцией гуманизации уголовной политики, так и в некоторых случаях субъективным некритичным восприятием со стороны судьи объективных обстоятельств, характеризующих поведение осужденного в период отбывания ограничения свободы [8, с. 14].
Необходимо также указать, что компетентност-ные полномочия сотрудников УИИ по обеспечению профилактического потенциала ограничения свобо- ды существенным образом снижены – сотрудники инспекции не вправе конкретизировать представление и направить в суд требование о дополнении осужденному перечня ранее возложенных обязанностей определенным ограничением, целесообразным и эффективным в контексте его исправления. Данная ситуация нуждается в нормативной формализации, путем дополнения нормы, закрепленной в ч. 3 ст. 58 УИК РФ.
Во-вторых, анализ интервьюирования сотрудников УИИ позволяет сделать вывод об изначальной неэффективности исполнения ограничения свободы в отношении осужденных, которым оно было назначено судебными органами в порядке ст. 80 УК РФ по формальным признакам.
Так, согласно статистической информации ФСИН России, в 2020 году практически каждый третий состоящий на учете УИИ осужденный к наказанию в виде ограничения свободы – это лицо, которому данное наказание было назначено в порядке замены. Однако изучение особенностей личности рассматриваемой категории спецконтингента позволяет сформулировать заключение о потенциально низком ресурсе применяемых в их отношении профилактических мер, реализуемых при исполнении ограничения свободы, не позволяющем достичь целей наказания, что приводит к совершению ими повторных преступлений в течение непродолжительного периода времени с момента освобождения из исправительного учреждения.
В-третьих, следует отметить сложности контроля за выполнением осужденными ряда обязанностей, обусловленные межотраслевой «конфликтностью» уголовно-правового и уголовно-исполнительного нормирования. Например, ограничение «не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток», как правило, суды устанавливают на ночное время суток, но при этом сотрудникам УИИ запрещено посещать жилище осужденного в период времени с 22:00 до 6:00 часов согласно ч. 2 ст. 60 УИК РФ.
Подобное противоречивое регулирование вызывает на практике необходимость привлечения дополнительно к осуществлению контроля сотрудников полиции и необходимость получения ими согласия на вход в жилое помещение.
На наш взгляд, в условиях отсутствия иной возможности проверить соблюдение установленного приговором суда ограничения необходимо расширить полномочия сотрудников УИИ, предоставив им право посещать жилище осужденного с 22:00 до 6:00 часов.
В-четвертых, можно подчеркнуть, что пробельность уголовно-исполнительного законодательства не позволяет в полной мере реализовать профилактический потенциал ограничения свободы, создавая дополнительные трудности при исполнении наказа- ния у сотрудников УИИ. Например, в ч. 4 ст. 58 УИК РФ среди оснований признания осужденного злостно уклоняющимся от отбывания ограничения свободы не упоминается основание, связанное с совершением умышленного повреждения технических средств надзора и контроля. Взыскание стоимости поврежденного дорогостоящего оборудования осуществляется в настоящее время в гражданско-процессуальном порядке и, в большинстве случаев, не влияет на дисциплинарный статус осужденного. Однако в последнее время формируется правомерная, с нашей точки зрения, практика применения сотрудниками УИИ в подобных ситуациях п. «б» ч. 4 ст. 58 УИК РФ.
В-пятых, необходимо указать на трудности исполнения ограничения свободы, возникающие в связи с техническими проблемами эксплуатации СЭМПЛ.
Среди основных замечаний можно выделить:
-
• несоответствия декларируемых и реальных технических характеристик источников питания электронных браслетов, которые на практике вызывают необходимость частого ремонта и определяют в некоторых ситуациях экономическую нецелесообразность эксплуатации оборудования [9, с. 292];
-
• недостаточное картографическое покрытие, применяемое в СЭМПЛ, в связи с утратой актуальности электронных карт и редкими обновлениями, что приводит к несоответствию карт местности, препятствует однозначной оценке поведения осужденного сотрудником УИИ в контексте исполнения им ограничений, установленных судом;
-
• некорректность работы СЭМПЛ, приводящая к недостоверности информации о нарушениях ограничений осужденными, которая в ходе проверок зачастую не находит своего подтверждения и может быть признанатехническим сбоем, вызывая у суда сомнение относительно реальности выявленных УИИ нарушений, полученных при помощи оборудования СЭМПЛ;
-
• общее низкое качество используемого обору дования СЭМПЛ, ремонт которого приводит к снижению технических характеристик эксплуатации.
Однако, несмотря на указанные выше недостатки, исходя из концептуальных направлений развития уголовно-исполнительной системы в настоящее время, связанных с укреплением функционирования органов, исполняющих наказания без изоляции осужденного от общества, пролонгированной ориентации уголовной политики на гуманистические тенденции экономии кары наказания, можно сформулировать суждение о целесообразности совершенствования правового регулирования применения и технического оснащения СЭМПЛ.
Так, 29 апреля 2021 года распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, положения которой предусматривают совершенствование СЭМПЛ с помощью использования глобальных навигационных систем ГЛОНАСС/GPS.
Реализация данного положения на практике обеспечит круглосуточный контроль местонахождения осужденных, поскольку в систему слежения добавится специальный модуль, получающий координаты подконтрольного лица с помощью спутника. Широкое покрытие сети позволит установить местонахождение осужденного не только на территории конкретного субъекта, но и по всей России.
В-шестых, стоит также обратить особое внимание на назначение судами ограничений использования подконтрольным лицом средств связи и сети Интернет, исполнение которого можно признать виртуальным.
В настоящее время не представляется возможным проконтролировать соблюдение осужденным указанного ограничения в связи с отсутствием технических разработок в данной области и недостаточным материально-техническим обеспечением УИИ средствами аудиовизуального контроля.
Таким образом, в заключение можно сделать следующие выводы:
-
1. О перспективности применения ограничения свободы, исходя из общих тенденций уголовной политики на современном этапе государственного развития, при некоторой оптимизации судебной практики.
-
2. О необходимости пролонгирования деятельности по совершенствованию уголовно-правового и уголовно-исполнительного нормирования ограничения свободы, с учетом сформулированных нами отдельных положений.
-
3. Об актуальности технических исследований, результаты которых могут быть использованы для инновации аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля за поведением осужденных к ограничению свободы.
Список литературы Проблемы правового регулирования назначения и исполнения ограничения свободы
- Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2016 года № 127-АПУ15-12 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-4022016-n127-apu15-12/ (дата обращения: 20.08.2022).
- Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 марта 2015 года) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176091/ (дата обращения: 20.08.2022).
- Кассационное определение Верховного Суда РФ от 2 июня 2016 года № 87-О16-1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-02062016-n-87-o16-1// (дата обращения: 20.08.2022).
- Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29 сентября 2016 года № 83-АПУ16-7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-9092016-n-83apu16-7//(дата обращения: 20.08.2022).
- Соколов И. Проблемы назначения уголовного наказания в виде ограничения свободы // Уголовное право. 2011. № 5. С. 35-43.
- Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 6 июля 2016 года № 59-АПУ16-5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-6072016-n-59apu16-5//(дата обращения: 20.08.2022).
- Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2016 года № 127-АПУ16-2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-0032016-n-127apu16-2/ (дата обращения: 20.08.2022).
- Анисимова А.М., Кузнецов А.И. Актуальные проблемы назначения и исполнения наказания в виде ограничения свободы // Вестник Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний. 2022. № 2(45). С. 8-16.
- Лядов Э.В., Грушин Ф.В. СЭМПЛ при исполнении уголовного наказания в виде ограничения свободы // Организационно-правовое обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы: проблемы и перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора А.И. Зубкова и Дню российской науки. Рязань, 2022. С. 288-293.