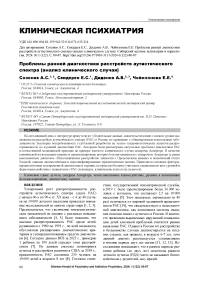Проблемы ранней диагностики расстройств аутистического спектра (анализ клинического случая)
Автор: Созонов А.С., Свидерек Е.С., Диденко А.В., Чойнзонова Е.Е.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Клиническая психиатрия
Статья в выпуске: 1 (122), 2024 года.
Бесплатный доступ
На сегодняшний день в литературе присутствуют убедительные данные, свидетельствующие о низком уровне выявляемости расстройств аутистического спектра (РАС) в России, по сравнению с общемировыми показателями заболеваемости. Бесспорна востребованность углубленной разработки не только эпидемиологических аспектов распространенности, но и ранней диагностики РАС. Авторами были рассмотрены актуальные проблемы диагностики РАС в отечественной медицинской практике на примере частного клинического случая синдрома Аспергера. В качестве клинической иллюстрации описана и проанализирована история болезни пациентки с синдромом Аспергера (с ранее выставленным диагнозом «Шизотипическое расстройство личности»). Представлены анамнез и психический статус больной, описана диагностическая и персонифицированная терапевтическая тактика. Приводятся основные факторы, препятствующие своевременной диагностике и терапии, которые необходимо учитывать специалистам всех уровней и форм взаимодействия с пациентами с РАС (психиатры, клинические психологи, педагоги).
Аутизм, синдром аспергера, коммуникативное взаимодействие, речевое и когнитивное функционирование, диагностика, терапия
Короткий адрес: https://sciup.org/142240663
IDR: 142240663 | УДК: 616.896:004.81:159.942.52:616.071:615.214 | DOI: 10.26617/1810-3111-2024-1(122)-80-87
Текст научной статьи Проблемы ранней диагностики расстройств аутистического спектра (анализ клинического случая)
Ускоренный рост распространенности расстройств аутистического спектра (далее РАС) с начала 60-х по 90-е гг. XX века - с 4 до 40 случаев на 10 000 детского населения привлекло внимание исследователей из многих стран мира [1, 2, 3]. Предполагается, что увеличение эпидемиологических показателей не связано с реальным повышением заболеваемости [4, 5]. Было показано, что высокая распространенность РАС среди детей, роди вшихся с 1980 по 1991 г., по всей видимости, обусловлена расширением диагностических критериев и усовершенствованием средств диагностики [6]. Согласно данным ВОЗ за 2023 г., примерно 1 ребенок из 100 детей страдает этим расстройством [7]. По данным системы мониторинга аутизма и расстройств развития в США за 2018 г., превалентность РАС составила 230 человек на 10000 детей в возрасте 8 лет [8]. Согласно стати- стике государственной психиатрической службы, в 2019 г. было зарегистрировано более 36 000 человек с аутизмом, что составляет 2,5 на 10000 населения [9]. Этот показатель значительно (в 40 раз) отличается от мировой медианной превалентности РАС [10], что свидетельствует о недостаточной диагностике, как компонента системы оказания помощи лицам с аутизмом в России. В контексте превенции выраженных нарушений социализации детей ключевой проблемой считается раннее выявление РАС. Однако в России это расстройство в большинстве случаев диагностируется на поздних стадиях, как правило, в возрасте 6-7 лет, хотя данный диагноз рекомендуется устанавливать в течение первых двух лет жизни [11, 12, 13]. Исследования показывают, что в раннем периоде развития ребенка (до двух лет) симптомы раннего детского аутизма (РДА) часто не вызывают беспокойства ни у родителей, ни у врачей.
В российских условиях педиатры и неврологи минимально участвуют в выявлении этого расстройства, в первую очередь в связи с недостаточным уровнем знаний о ранних признаках аутизма, необходимых для оказания своевременной медицинской помощи [13, 14]. Еще одной проблемой является низкая осведомленность населения в целом о симптомах РАС. Родители и близкие таких пациентов часто не осознают, что различные проблемы в самочувствии и поведении ребенка могут быть обусловлены психическими расстройствами. Это приводит к несвоевременному обращению родителей за специализированной помощью по поводу психического здоровья детей с клиническими проявлениями аутизма. Поздняя диагностика приводит к более тяжелому течению основного расстройства за счет нарастания коммуникативных и адаптационных трудностей, тем самым увеличивая риск развития сопутствующей патологии. При несвоевременной диагностике процесс сопровождения детей с аутизмом впоследствии требует значительных финансовых и социальных затрат. Выявление РАС на раннем этапе течения заболевания позволяет применить эффективные профессиональные вмешательства, что способствует более успешной социализации детей, это подтверждается установленной корреляцией между более ранним периодом начала терапии и низкой тяжестью симптомов РДА и поведенческих проблем во взрослом возрасте [13, 15].
В России помощь детям с аутизмом находится на стадии становления, её доступность зависит от наличия межведомственных программ в регионе. Отсутствие массового скрининга в определенн 1 ых возрастных группах и недостаточное информирование специалистов о современных диагностических критериях и методах существенно ограничивают возможности медицинской помощи для лиц с аутизмом в России. Существующие программы лечения и реабилитации пациентов с РАС недостаточно универсальн 1 ы и проработан 1 ы [16]. Часто серьезн 1 ые препятствия возникают уже на этапе установлени[я диагноза, когда пациенты наблюдаются не у психиатра, а у невролога, а иногда вообще не обращаются за медицинской помощью, предпочитая взаимодействовать с психологами или логопедами. Известно, что направление на психолого-медико-педагогическую комиссию сопряжено с рядом трудностей, в том числе с сопротивлением родителей, пытающихся избежать стигматизации, со сложностями в комплектовании самих комиссий и диагностике РАС [14]. Нормативное закрепление наиболее эффекти 1 вных методик поможет обеспечить качество и доступность медико-психологической помощи пациентам с РАС на протяжении их жизни.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить актуальные проблемы диагностики расстройств аутистического спектра в отечественной медицинской практике на примере частного клинического случая синдрома Аспергера.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на базе отделения первого психотического эпизода № 2 Томской клинической психиатрической больницы. При выполнении работы соблюдались этические принципы Хельсинкской Декларации ВМА и «Правила клинической практики в Российской Федерации». От пациентки получено добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Научная новизна и значимость определяются сложностью диагностики РАС на ранних этапах развития патологии и необходимостью использования комплексного, интегративного реабилитационного подхода при РАС. Практическая новизна и значимость заключаются в возможности использования представленного клинического случая в качестве примера диагностики расстройств аутистического спектра, формировании прогноза дальнейшего течения состояния и индивидуального подбора терапии.
Объект исследования
Пациентка У., 18 лет, славянской национальности. Проходила стационарное психиатрическое лечение со 14 августа по 7 сентября 2023 г. Диагноз: Р84.5 Синдром Аспергера (по МКБ-10 рубрика Р84).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ
Анамнез: наследственность манифестными формами психозов не отягощена. Родилась вторым ребенком из трех детей. Имеет двух братьев, с которыми поддержи[вает формальные отношения. Родителей характеризует как заботливых, опекающих. Беременность и роды у матери протекали физиологично, без осложнений. В раннем периоде развития говорить начала своевременно, но ходить научилась с некоторой задержкой. В возрасте 2-3 лет страдала атопическим дерматитом, связанным с употреблением рыбы и продуктов, содержащих картофельный крахмал. С 4 лет стала крайне избирательна в питании, отказывалась от мясной продукции. По характеру была замкнутой и малообщительной, предпочитала проводить время в одиночестве, к контакту со сверстниками не стремилась. В дошкольном периоде посещала ясли-сад развивающего типа «Монтессори», в детском коллективе адаптировалась с трудом, друзей не имела, из-за несформи-рованности коммуникативных навыков обращала на себя внимание воспитателей (например, начинала плакать, если что-то не нравилось или если была не согласна выполнять задание, при этом отказ не могла объяснить вербально).
Уже с детства отмечались проявления стереотипного поведения. В случайном разговоре, услышав от кого-то из взрослых, что девочки должн 1 ы носить юбки, в любую погоду надевала исключительно юбки, на попытки родителей предложить другие варианты одежды реагировала негативно. К 7 годам стала испытывать страх, находясь в ситуации большого скопления людей. «Впадала в ступор», когда на неё обращали внимание окружающие, особенно при необходимости публичных выступлений на праздничных утренниках в детском саду. В школу пошла своевременно, училась на хорошие отметки. В начальных классах имела одну близкую подругу. Учителя характеризовали её как «странного» ребенка, в первую очередь в связи с повышенной плаксивостью (например, даже при незначительном повышении интонации учителя), отказывалась отвечать публично, говорила тихим голосом. На школьных мероприятиях, например во время церемонии награждения, отказывалась выходить на сцену для вручения грамоты. На занятиях физической культурой не участвовала в командных играх, в движениях была неуклюжа, с трудом участвовала в физических играх, требующих навыков крупной моторики.
К 4-му классу стала еще более замкнутой, отстраненной и скрытной, прекратила общаться даже с единственной подругой, успеваемость снизилась. В 5-м классе перешла в другой класс, с одноклассниками практически не коммуницировала, периодически заводила друзей. Читать стихи наизусть у доски категорически отказывалась, могла это сделать только наедине с педагогом. С её слов, подвергалась насмешкам со стороны сверстников. Дополнительно занималась английским языком. Свободное время проводила в одиночестве за чтением книг. В 8-м классе перешла в другую школу в связи с переездом семьи на другое место жительства. В новом классе со сверстниками так же практически не взаимодействовала, плохо запоминала расположение школьных кабинетов, нуждалась в направлении со сторон 1 ы, однако самостоятельно никогда не прибегала к посторонней помощи, не могла вступить в диалог с незнакомым сверстником. В питании сохранялась избирательность, питалась ограниченным количеством продуктов (слайсы, булочки, гречневая каша на воде, макароны), пила только воду и соки, категорически отказывалась от других напитков. Услышав на занятии по природным ресурсам и экологии, что ненужную бумагу необходимо подвергать переработке после использования, стала навязчива в данным вопросе. От родственников требовала ежедневного сбора бумажных изделий для сдачи на утилизацию, при этом строго контролировала процесс.
В свободное время занималась творческой деятельностью: рисовала, писала стихи и рассказы, слушала музыку. В 2023 г. окончила 11 классов, успешно сдала ЕГЭ по трем предметам (английский, русский язык, математика), но в перспективе планов продолжать образование не имела. В настоящее время проживает с родителями, по-стоянн 1 ых обязанностей не имеет, пишет рассказы на английском языке по мотивам известн 1 ых песен, публикует их в интернете. С 15 лет переписывалась в социальных сетях с молодым человеком, проживающим за рубежом. С её слов, он рассказал, что страдает диссоциативным расстройством личности, что в его теле одновременно находятся несколько личностей. Проявила интерес и быстро увлеклась этой темой. Позднее, с её слов, у неё зародилась идея придумать сообщество воображаемых друзей и жить в обстановке доверия и понимания в их окружении, что она и попыталась сделать, однако, по её словам, у неё возникли «альтернативные личности». Общение с другом по переписке оборвалось летом 2022 г.
По настоянию матери в июне 2022 г. впервые обратилась на прием к участковому психиатру с жалобами на замкнутость, необщительность, плаксивость, избирательность в еде, странности в поведении. Был поставлен диагноз: F21.8 Шизотипическое расстройство личности. К приему рекомендованы рисперидон и эсциталопрам. В дальнейшем в беседах с родственниками выяснилось, что пациентка нуждается в постороннем побуждении к соблюдению личной гигиены, испытывает разные страхи (смерти, крови). В дальнейшем терапия была дополнена гидроксизином. В августе 2022 г. при посещении психиатра сообщила о том, что в течение последнего года мысленно общалась с воображаемыми друзьями, которые являются её «альтернативными личностями». Далее в ходе лечения повышалась дозировка эсциталопрама, дважды отмечалось непроизвольное мочеиспускание, проводилась коррекция терапии, наращивалась доза рисперидона. На фоне антидепрессивной терапии то возобновлялась физическая и психическая активность, то вновь испытывала внутреннее напряжение и была замкнута. Продолжала в воображении общаться с «альтернативными личностями» в голове, каждая из которых имела своё имя и внешний образ, на рисунках детально изображала, как они выглядят, каждому из них подбирала любимый вид музыки. Основной фигурой в структуре «альтернативных личностей» считала молодого и привлекательного парня Максима. Перешла на спортивный стиль одежды, стала постоянно носить брюки. Однократно уверяла мать, что её игрушки на самом деле живые существа. К схеме лекарственной терапии был добавлен флупентиксол.
В феврале 2023 г. преобладали мысли о вреде от микроволновой печи, поняла, что превратилась в зомби. Временами становилась тревожна, как правило, после посещения многолюдных мест, справлялась с этим состоянием, совершая стереотипные прыжки на месте, закручивая пальцем пряди волос. Участковым терапевтом эсцитало-прам была заменен на пароксетин. На фоне смены препарата однократно отмечался подъем активности, в дальнейшем стала спокойнее и менее напряженной. В апреле 2023 г. в беседе с врачом сообщила, что 4 года назад с ней произошла неприятная ситуация, которую якобы помнит её «альтернативная личность», но забыла она сама. Испытывала ощущение, что как будто бы снова находится в той неприятной ситуации, от чего парализует страх, сопровождающийся неприятными телесн 1 ыми ощущениями (в теле «щекочут вены»). К терапии был добавлен карипразин, но без эффекта. Участковый психиатр неоднократно предлагал родителям госпитализацию пациентки в круглосуточный стационар, от которой они категорически отказывались. В августе во время очередного осмотра участковым психиатром на фоне ухудшения состояния была направлена на стационарное лечение и обследование с целью уточнения диагноза. Госпитализирована в ТКПБ впервые.
Психическое состояние: в сознании. Ориентирована верно. Внешне несколько неопрятна, волосы неухоженные, сальные, бесформенно спадают на лицо. Сидит в однообразной позе сгорбившись. Эмоционально невыразительна, гипо-мимична. Зрительный контакт не поддерживает, смотрит в сторону. Голос монотонный, тихий, едва слышный. Во время разговора трясет ногой, покачивается на стуле, щелкает пальцами. В беседе пасси 1 вна, на вопросы зачастую отвечает односложно, после продолжительных пауз, часть вопросов оставляет без ответа.
Рассказала, что в течение примерно двух последних лет у неё в голове появились «альтернативные личности», которые по очереди занимают её тело. Уверена, что появляются они вслед за травмирующими событиями (например, после инъекций лекарственных средств или в ситуации, когда кто-то кричит на неё). Упоминает также, что однажды в интернет-переписке незнакомый мужчина прислал фото своего полового органа, после чего у неё в голове появилась новая сущность по имени Пират. Сообщила, что «альтернативных личностей» стало больше, чем было ранее, на данный момент около 10, перечисляет их имена: Мишель, Джей, Матвей, Софья, Соня (от слова «засоня»). Говорит, что непосредственно в данный момент с врачом беседует парень Максим.
Сообщает подробности о «личности» Мишеля, который является наполовину человеком, наполовину жи 1 вотным (лаской, «у него длинные волосы, шляпа, серьги, хвост»). Обстоятельно повествует как «альтернативные личности» (по-другому называет их «голоса») пугают её, поскольку они знают о неких неприятных событиях, которые произошли с ней в прошлом. Сама она давно забыла об этих неудачах, но когда кто-то из окружающих напоминает о произошедшем, то первыми начинают бояться «альтернативные личности», а затем свой страх передают ей. Утверждает, что последнее время внушают ужас кошмарные сновидения, где ей делают наносящую вред инъекцию. Поскольку это одно из негативных событий, вследствие которого возникла «личность» Мишель, считает, что именно он посылает ей мучительн 1 ые сновидения с целью напомнить о неприятном событии. Замечает, что периодически «личности» могут объединяться в неразделимое целое, но зачастую одна часть их спит «в специальном спальном мешке», а другая часть бодрствует.
Говорит, что не имеет друзей и «ни к кому ничего не чувствует», «родители меня любят, а я их нет». Планов на будущее не строит, утверждает, что хотела бы только слушать музыку (не может уточнить какую конкретно), рассказывает, что прочитала недавно о ней книгу, подробности раскрывать отказывается, мотивируя уклонение от ответа отговоркой («вы будете смеяться»). Мышление аморфное, паралогичное, амбивалентное, низкой продукти 1 вности. Суицидальные мысли, намерения на момент осмотра отрицает. Вместе с тем отмечает, что ранее задумывалась о самоубийстве, связывает размышления на тему смерти с конфликтами с родителями по поводу обучения, но в тот момент появилась очередная «личность» в голове и отговорила её.
Выполнено тестирование с использованием RAADA-R (17A.08.202D3). РезSульт-ат 1R57 баллов.
Заключение психолога (29.08.2023): личность с избирательностью в контактах, замкнутостью, отгороженностью, преобладанием субъекти 1 вного восприятия действительности, склонностью к погружению в мир мечтаний и фантазий, пасси[вной созерцательной позицией, затруднением в адаптации к окружающему миру, повышенной ранимостью и впечатлительностью, снижением продуктивной деятельности, тревожностью и неуверенностью в себе, самоуничижительными тенденциями, легким формированием чувства вины, страхов, фобий, эмоциональной неустойчивостью. Исследование показало повышенный уровень тревоги, субклинические проявления симптомов депрессии, повышенный уровень аутоагрессии.
Лечение: за период пребывания в стационаре получала оланзапин до 10 мг/сут, флуоксетин до 20 мг/сут. Проводилась психотерапевтическая коррекция коммуникативных нарушений (речевой и невербальный контакт, выработка сотрудничества в процессе общения). За период наблюдения в отделении по-прежнему оставалась отстраненной, в контакт с окружающими не вступала, самостоятельно ни с другими пациентами в палате, ни с медицинский персоналом не коммуницировала, даже в ситуациях необходимости, когда нужно было попросить воды или узнать, занята ли туалетная комната. Практически весь день проводила в палате, полностью погрузившись в далекое от реальности фантазирование, на многочисленных рисунках изображала, как выглядят её «альтернативные личности». Во время передвижения по отделению обращала на себя внимание неуклюжестью походки. В беседах с врачом избегала зрительного контакта, мимика была маловыразительной, движения и жестикуляция отличались резкостью и угловатостью. В ходе лечения пользовалась режимом домашних отпусков, из которых возвращалась своевременно, находясь в стабильном психическом состоянии. Со слов родственников, стала менее тревожной и напряженной в процессе общения с посторонними людьми (например, побывала на дне рождения дальней родственницы, нахождением там заметно не тяготилась).
Выставлен диагноз «Синдром Аспергера». Из отделения была выписана с улучшением психического состояния.
ОБСУЖДЕНИЕ
В анамнезе прослежи 1 вается длительная история специфических нарушений в коммуникативной сфере в виде эмоциональной изоляции, отсутствия потребности в межличностном общении и социальной активности со сверстниками и членами семьи, ярко проявленного дефицита эмоционально окрашенной обратной связи. Кроме этого, выявлена стереотипная оторванная от социального контекста активность в виде непродуктивного творчества, погруженности в мир собственных фантазий аутистического характера. Обнаруженная симптоматика связана с фантазированием, включает элементы деперсонализации с выявленными нечеткими границами «Я» и чувством присутствия во внутреннем пространстве множества личностей. Указанные пережи 1 вания не соп[ровождаются идеями воздействия, преследования и внешними поведен[ческими изменениями. Следует обратить внимание на стремление пациентки к сенсорной стимуляции в виде постоянного прослушивания музыки, застревающей стереотипной активности по поводу сбора и переработки мусора.
На передний план в актуальном психическом состоянии выходит дефицит социальной коммуникации и эмоционального резонанса при построении беседы. В целом речевая продукция активизируется только при обсуждении специфи[ческих внутренних интересов, связанных с фантазиями. Интересы, связанные с социальным функционированием и решением ежедневных задач, продуктивным планированием будущего, отсутствуют. Мимическое соп[ровождение и жестикуляция не сопровождают высказывания. Суицидальной настроенности не отмечалось. Согласно данным патопсихологического обследования интеллектуальные нарушения не выявлены. Однако в мышлении присутствуют элементы актуализации латентных признаков, стереотипии, аморфность. Согласно тесту RAADS-R набрала 157 баллов. Таким образом, имеют место психопатологические признаки для постановки диагноза синдрома Аспергера. В катамнезе следует исключить развитие расстройства шизофренического спектра (параноидная шизофрения).
Дифференциальная диагностика проводилась с шизотипическим расстройством, синдромом Каннера, шизоидным расстройством личности.
Шизотипическое расстройство (ШР): устойчивый дефицит навыков социально-эмоциональной коммуникации, проявляющийся неспособностью установить отношения со сверстниками, соответствующими возрастному уровню развития, нарушением использования невербальных форм поведения, склонностью к социально-эмоциональной изоляции, необычными и ограниченными интересы. Эти симптомы, представленные у пациентки с синдромом Аспергера, могут быть расценены как проявления ШР (уплощенный аффект, эксцентричность поведения, трудности в межличностной коммуникации, расстройства мышления, квази-психотические симптомы и др.). Прежде всего, отличительным признаком синдрома Аспергера от ШР является ранняя манифестация симптомов психического расстройства, начиная с детского возраста, стереотипн 1 ые и повторяющиеся модели поведения и, как результат, трудности социальной коммуникации и социальная изоляция. Проблемы социализации при синдроме Аспергера обусловлены нарушением социальных когниций и уходом в мир собственн[ых фантазий аутистического характера. Причины социальной дезадаптации при ШР могут быть связан 1 ы с парадоксальностью эмоциональной экспрессии, недоверием, подозрительностью, неадекватной оценкой ситуации, более активной динамикой и коммуникацией в виде проявлений демонстративноэксцентричного поведения, не совместимого с культурными и субкультурными нормами, возможными искажениями волевой активности.
Синдром Каннера (СК): одним из отличительных признаков является степен 1 ь тяжести клинических проявлений. Для СК характерно наиболее тяжелое течение аутизма, оказывающее значительное влияние на общее развитие ребенка. При наличии данного расстройства рецептивная и экспрессивная речь развиваются с задержкой. В речевом развитии первые слова (в форме эхола-лий, повторов последних и первых слогов слов) появляются на 2-4-м году жизни. Дети произносят их напевно, четкое произношение периоди[чески сменяется плохо разборчивым. Инди 1 видуальный лексикон у них пополняется медленно, после 3-5 лет часто встречаются короткие фразы-штампы, преобладает эгоцентрическая речь. Крупная моторика угловатая с двигательными стереотипиями, атетозоподобн[ыми движениями, ходьбой с опорой на пальцы ног, мышечной дистонией. С рождения отмечаются когнитивные нарушения, не формируется абстрактное мышление, к пубертатному возрасту интеллект диссоциированно снижен (IQ менее 70 баллов). Тогда как на примере представленного клинического случая следует отметить, что у пациентки с синдромом Аспергера наблюдается раннее речевое развитие (с имитацией звуков после полугода), обширный речевой запас, отсутствие грубых нарушений моторной сферы, а также развитие функций интеллекта в пределах нормальных значений.
Шизоидное расстройство личности (ШРЛ) характеризуется стремлением проводить время в одиночестве, отрешенностью от социальных отношений, сглаженностью эмоциональной экспрессии. Эти неспецифические симптомы, так же встречающиеся при синдроме Аспергера, могут быть расценены как проявления ШРЛ. Однако отличительным признаком синдрома Аспергера является ранняя манифестация симптомов психического расстройства, преимущественно с детства. Тогда как наиболее отчетливые проявления ШРЛ в основном приходятся на препубертатный и пубертатный периоды. При синдроме Аспергера может наблюдаться задержка развития моторной сферы, что нехарактерно для ШРЛ. Причина дефицита социальных контактов при ШРЛ обусловлена отсутствием желания к формированию и поддержанию близких отношений, которые в целом вполне сохраняются в узком круге близких лиц. В то время как при синдроме Аспергера избегание контактов и взаимодействия обусловлено глобальным дефицитом навыков коммуникации и социальных когниций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, представленный клинический случай доказательно обозначил трудности, возникающие при диагностике и терапии РАС, а именно:
-
- влияние особенностей семейного функционирования на отношение к психопатологическим проявлениям ребенка, интерпретируемым в контексте варианта нормы, нежелание родителей и ближайшего социального окружения обращаться за помощью к специалистам психиатрического профиля из-за страха потенциальной стигматизации;
-
- отсутствие в ряде случаев межведомственной системы медико-психолого-педагогического взаимодействия при проведении ранней диагностики РАС в детских дошкольных учреждениях, а также практики использования инструментов раннего скрининга РАС;
-
- слабость феноменологического понимания и клинической оценки выявляемых расстройств врачами-психиатрами, их интерпретация исключительно как клиническая динамика расстройств шизофренического спектра, без учета ключевых нарушений, составляющих основу РАС, в виде дефицита навыков социальной деятельности, коммуникативного функционирования (с акцентом на автономность личности и отстраненность от окружающих), наличие стереотипий и манеризмов.
Указанные факторы необходимо учитывать специалистам всех уровней и форм взаимодействия с пациентами с РАС (психиатры, клинические психологи, педагоги) с целью своевременной и ранней диагностики, определения ведущих терапевтических и реабилитационных подходов, имеющих, несомненно, клиническую эффективность.
Список литературы Проблемы ранней диагностики расстройств аутистического спектра (анализ клинического случая)
- Hallmayer J, Cleveland S, Torres A, Phillips J, Cohen B, Torigoe T, Miller J, Fedele A, Collins J, Smith K, Lotspeich L, Croen LA, Ozonoff S, Lajonchere C, Grether JK, Risch N. Genetic heritability and shared environmental factors among twin pairs with autism. Arch Gen Psychiatry. 2011 Nov; 68(11):1095-102. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2011.76. Epub 2011 Jul 4. PMID: 21727249; PMCID: PMC4440679.
- Baio J, Wiggins L, Christensen DL, Maenner MJ, Daniels J, Warren Z, Kurzius-Spencer M, Zahorodny W, Robinson Rosenberg C, White T, Durkin MS, Imm P, Nikolaou L, Yeargin-Allsopp M, Lee LC, Harrington R, Lopez M, Fitzgerald RT, Hewitt A, Pettygrove S, Constantino JN, Vehorn A, Shenouda J, Hall-Lande J, Van Naarden Braun K, Dowling NF. Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years ‒ Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014. MMWR Surveill Summ. 2018 Apr 27;67(6):1-23. doi: 10.15585/mmwr.ss6706a1. Erratum in: MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018 May 18;67(19):564. Erratum in: MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018 Nov 16;67(45):1280. PMID: 29701730; PMCID: PMC5919599.
- Rice CE, Rosanoff M, Dawson G, Durkin MS, Croen LA, Singer A, Yeargin-Allsopp M. Evaluating changes in the prevalence of the autism spectrum disorders (ASDs). Public Health Rev. 2012;34(2):1-22. doi: 10.1007/BF03391685. PMID: 26236074; PMCID: PMC4520794.
- Miller JS, Bilder D, Farley M, Coon H, Pinborough-Zimmerman J, Jenson W, Rice CE, Fombonne E, Pingree CB, Ritvo E, Ritvo RA, McMahon WM. Autism spectrum disorder reclassified: a second look at the 1980s Utah/UCLA Autism Epidemiologic Study. J Autism Dev Disord. 2013 Jan;43(1):200-10. doi: 10.1007/s10803-012-1566-0. PMID: 22696195; PMCID: PMC4467195.
- Hansen SN, Schendel DE, Parner ET. Explaining the increase in the prevalence of autism spectrum disorders: the proportion attributable to changes in reporting practices. JAMA Pediatr. 2015 Jan;169(1):56-62. doi: 10.1001/jamapediatrics.2014.1893. PMID: 25365033.
- Nassar N, Dixon G, Bourke J, Bower C, Glasson E, de Klerk N, Leonard H. Autism spectrum disorders in young children: effect of changes in diagnostic practices. Int J Epidemiol. 2009 Oct;38(5):1245-54. doi: 10.1093/ije/dyp260. Epub 2009 Sep 7. PMID: 19737795.
- World Health Organization. Autism spectrum disorders. 2019. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ autism-spectrum-disorders.
- Maenner MJ, Warren Z, Williams AR, Amoakohene E, Bakian AV, Bilder DA, Durkin MS, Fitzgerald RT, Furnier SM, Hughes MM, Ladd-Acosta CM, McArthur D, Pas ET, Salinas A, Vehorn A, Williams S, Esler A, Grzybowski A, Hall-Lande J, Nguyen RHN, Pierce K, Zahorodny W, Hudson A, Hallas L, Mancilla KC, Patrick M, Shenouda J, Sidwell K, DiRienzo M, Gutierrez J, Spivey MH, Lopez M, Pettygrove S, Schwenk YD, Washington A, Shaw KA. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years ‒ autism and developmental disabilities monitoring network, 11 Sites, United States, 2020. MMWR Surveill Summ. 2023 Mar 24;72(2):1-14. doi: 10.15585/mmwr.ss7202a1. PMID: 36952288; PMCID: PMC10042614.
- Казаковцев Б.А., Демчева Н.К., А.В. Яздовская, Сидорюк О.В., Николаева Т.А. Психиатрическая помощь населению Российской Федерации в 2019 году: Аналитический обзор. М.: ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2020. 145 с.
- Zeidan J, Fombonne E, Scorah J, Ibrahim A, Durkin MS, Saxena S, Yusuf A, Shih A, Elsabbagh M. Global prevalence of autism: A systematic review update. Autism Res. 2022 May;15(5):778-790. doi: 10.1002/aur.2696. Epub 2022 Mar 3. PMID: 35238171; PMCID: PMC9310578.
- Мальтинская Н.А. История развития учения об аутизме. Концепт. 2017. № 11. С. 53-61. Maltinskaya NA. History of the development of the doctrine of autism. Concept. 2017;11:53-61(in Russian).
- Филиппова Н.В., Барыльник Ю.Б. Эпидемиология аутизма: современный взгляд на проблему. Социальная и клиническая психиатрия. 2014. Т. 24, № 3. С. 96-101.
- Альбицкая Ж.В. Ранний детский аутизм – проблемы и трудности первичной диагностики при междисциплинарном взаимодействии. Медицинскийальманах. 2016. № 2 (42). С. 108-111.
- Фесенко Ю.А., Шигашов Д.Ю. Ранний детский аутизм: медико-социальная проблема. Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2013. Т. 8, № 1. С. 271-273.
- Богдашина О.Б. Синестезия при аутизме. Аутизм и нарушения развития. 2016. Т. 14, № 3. С. 21-31. doi: 10.17759/autdd.2016140302.
- Божкова Е.Д., Баландина О.В., Коновалов А.А. Расстройства аутистического спектра: современное состояние проблемы (обзор). Современные технологии в медицине. 2020. Т. 12, № 2. С. 111-120.