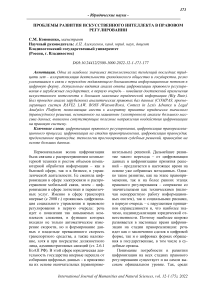Проблемы развития искусственного интеллекта в правовом регулировании
Автор: Кононенко С.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 12-1 (75), 2022 года.
Бесплатный доступ
Одна из наиболее значимых технологических тенденций последних тридцати лет - алгоритмизация деятельности гражданского общества и государства, резко усилившаяся в связи с переходом подавляющего большинства информационных потоков в цифровую форму. Актуальным видится анализ опыта цифровизации правового регулирования в зарубежных государствах, в первую очередь - новейших достижений применения искусственного интеллекта к большим массивам юридической информации (Big Date). Был проведен анализ зарубежных аналитических правовых баз данных (COMPAS, прогнозирующих систем RAVEL LAW, ROSS (Watson/Ross), Context in Lexis Advance и Legal Analytics Platform, позволяющих свести к алгоритму принятие юридически значимого (правосудного) решения, основанного на машинном (электронном) анализе большого массива данных, выявлены сопутствующие полезные направления воздействия цифровизации на правовую систему.
Цифровизация правового регулирования, цифровизация правореализационного процесса, цифровизация на стадии правоприменения, цифровизация правосудия, предсказанное правосудие, технологии прогнозирования судебных решений, правосудие на основе больших данных
Короткий адрес: https://sciup.org/170197285
IDR: 170197285 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-12-1-171-177
Текст научной статьи Проблемы развития искусственного интеллекта в правовом регулировании
Первоначальная волна цифровизации была связана с распространением компьютерной техники и ростом объемов компьютерной обработки информации – как в бытовой сфере, так и в бизнесе, в управленческой деятельности. Ее сменила цифровизация в сфере электросвязи и распространение мобильной связи, затем – цифровизация в сфере логистики и перевозочных услуг. Именно в сфере транспорта впервые (с 2008 г.) проявилась цифровизация социального управления и правового регулирования в первую очередь: речь идет о появлении так называемых комплексов слежения, в функции которых входило не только автоматическое измерение скорости, но и формирование данных о владельце превысившего скорость транспортного средства, а также наложение, хотя и при посредстве должностного лица, административных санкций (ст. 2.6.1 КоАП РФ). В этой сфере юридическая деятельность государства впервые перешла от собирания цифровых данных – к принятию на их основе окончательных (правоприме- нительных) решений. Дальнейшее развитие такого перехода – от цифровизации данных в цифровизацию принятия решений – предлагается в настоящее время на основе уже собранных метаданных. Однако такое развитие, как на этапе правоприменения, так и на более ранних этапах правового регулирования – сопряжено со значительными как техническими (включая некорректную работу информационных систем), так и социальными рисками, в первую очередь – с нарушением принципов справедливости и, что наиболее значимо, индивидуализации юридической ответственности. Поэтому наиболее широко развивается в настоящее время цифровизация на стадии правореализации: речь идет как о заключении сделок в цифровой форме, так и о цифровых формах обращения в государственные, в том числе в судебные органы.
Понимание потребности в развитии цифровизации на всех стадиях правового регулирования существует и на самом высоком официальном уровне. Так, среди приоритетных национальных целей и стратегических задач в Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 постоянно указывается на цифровую экономику, цифровые решения, цифровое образование и подготовку кадров, на «внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» [1].
Постановлением Правительства России от 29.12.2020 г. № 2351 было отмечено, что необходимо «скорейшее внедрение в судебную систему, систему принудительного исполнения судебных актов и судебно-экспертную деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки осуществления правосудия, качество и оперативность проводимых судебноэкспертными учреждениями экспертиз и обеспечить эффективное исполнение судебных решений» [2].
Аналогичные положения, с более развернутым содержанием, закреплены в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [3]. В частности, в числе ее задач – «внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей».
В этой связи целесообразным представляется исследование опыта цифровизации правового регулирования в зарубежных государствах: анализ как их ошибок в направлении развития цифровизации, так и уже имеющихся достижений. К числу последних, например, относится опыт КНР, где действует «мобильный суд, доступный через чат-бот в самом крупном менеджере страны» (очевидно, речь идет о WeChat) [3], рассмотревший, по данным на январь 2021 г., уже более 3 млн граждан- ских дел. В Евросоюзе с 2018 г. действует Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях [4]. Наконец, в США на частном инвестиционном уровне разрабатываются такие алгоритмы, как COMPAS, а также прогнозирующие системы RAVEL LAW и ROSS (Watson/Ross) [5].
Однако все эти процессы, несмотря на очевидность перспективного значения для всей сферы правового регулирования, в российских исследованиях представлены крайне недостаточно: отечественная наука все еще решает проблемы применения цифровой информации в доказывании, идентификации электронных документов и до сих пор направлена лишь на уголовные аспекты их обращения [6; 7]. Исключение представляют собой лишь работы А.В. Аносова (2016 год [8]) и С.В. Васильковой (2018 год [9]), которые, однако, направлены на анализ развития электронного правового регулирования лишь в России. И хотя исследования развития цифровых технологий правового регулирования в зарубежных государствах также имели место, они уже существенно утратили актуальность в своей фактологической части (работы Н.А. Данилова (2013 г. [10]) и Е.Г. Иншаковой (2015 г. [11]), а также наиболее актуальная на данный момент, хотя и не связанная прямо с правовым регулированием работа А.С. Киселева 2018 года [12]). Таким образом, можно заключить, что, несмотря на назревшую в данный момент потребность в компаративных исследованиях цифровых технологий правового регулирования, данные исследования в нашей науке почти отсутствуют.
Для состояния отечественной науки в сфере цифровых технологий правового регулирования показательно, что даже в последних исследованиях продолжается смешение проблем электронного правосудия как алгоритма принятия юридически значимого (правосудного) решения, основанного на машинном (электронном) анализе большого массива данных – с одной стороны и проблем, связанных с электронной формой судебных обращений и судебных доказательств – с другой [9, с. 6], хотя очевидно, что вопросы цифровой формы доказательств относятся не к правоприменительной, а к правореализационной деятельности. Эти исследовательские ошибки приводят к размыванию существа проблем, связанных с цифровизацией правоприменительной деятельности. Кроме того, полностью отсутствуют исследования, направленные на анализ перспектив развития цифрового правотворчества – первой и основной стадии правового регулирования.
В то же время, приоритет проблем цифровизации правоприменения вызван одновременно несколькими факторами: как нарастанием правоприменительного (судебного) материала, для систематизации которого уже недостаточно таких электронных баз, как «КонсультантПлюс» или «Гарант», так и развитием самих цифровых технологий, достигших уровня создания «самообучающихся» программ, т.е. программ, учитывающих вновь возникающие факты для оценки как ранее заложенных в нее, так и последующих фактов, или «искусственного интеллекта». Речь идет о новых возможностях поиска судебных актов и далее - прогнозирования правоприменительных решений - на основе юридического контента решений, уже состоявшихся. Именно юридический контент стал основой для исследований, проведенных в американской корпорации Ravel Law (ныне это корпорация «LexisNexis»). Так как поиск велся в рамках англоамериканской правовой семьи, был взят юридический контент из текстов общего права. В них были выявлены цитаты, стандартные фразеологические обороты, профессиональные формулировки, в том числе сленговые (textual patterns), рассуждения судей Верховного Суда США и иных судей (judges opinions). Впоследствии система сама начала выявлять стандартные юридические формулировки, понятия, профессиональные обороты и иные textual patterns. Особенный упор делался на аргументацию, т.е. мотивационную часть судебных актов, что позволило выявить, какими наиболее типичными формулировками тот или иной судья обосновывает свои решения, а значит – какой язык (лек- сика и фразеология) убедителен для того или иного судьи (отсюда и последнее из названий программы – «Context in Lexis Advance», т.е. «контекст в правовом предвидении»). Для примера компания предлагает перечень дел из округа одного из техасских судей – Нэнси Фридмен, причем читателю компанией (посредством применения искусственного интеллекта) предлагается «понять поведение правосудия и судебные тренды» (Contextualize your understanding of the judge or court with views of the underlying list of cases) [13], «заговорить языком судьи» в исковом заявлении и т.п.
Интересно, что создание этой системы в США оценивается не только с точки зрения лучших результатов в спорах, но и с точки зрения возможностей, которые предоставляются юристам для снижения их расценок (или, как выразился один из аналитиков, «для обеспечения прибыльности в период продлившегося снижения выручки» – «to also protect profit margins at a time of continued pressure on fees» [14]).
Еще одна – аналогичная система обработки данных представлена английской корпорацией Westlaw (охватывает массивы данных Великобритании, Ирландии и Шотландии), с полным правом называющей себя «лидирующей» компанией в юридическом поиске (The leading legal research service). В контент ее поисковой системы входят более полумиллиона документов из различных видов судебных споров, более 2 млн законов и почти 1 млн публикаций [15], охватывая при этом более, чем 200-летний период.
Processing – НЛП) и «программном самообучении», позволяющем найти такие детали юридических суждений и поведения судей, которые раньше занимали бы недели.
Очевидно, что развитие технологий таких цифровых систем не находится в сфере ведения юриспруденции. Однако содействие юридической науки в развитии искусственного интеллекта для российской юриспруденции могло бы происходить в следующих направлениях:
-
- в дальнейшей универсализации юридического языка. В первую очередь, речь должна идти об уточнении лексики, применяемой в текстах нормативных и правоприменительных актов. Эта, когда-то сугубо теоретическая, задача – становится в настоящее время практически значимой – именно для точного общения правотворческой и правоприменительной практики посредством искусственного интеллекта. В этом направлении затруднения, как представляется, могут вызывать лишь отраслевые различия одних и тех же понятий. Так, понятия вины (или субъективной стороны правонарушения) в уголовном праве (ст. 24 Уголовного кодекса РФ) и в праве гражданском (п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ) – существенно отличаются, что исключает возможности сопоставления судебных актов, в которых разрешался вопрос о виновности уголовно-правовой, с судебными актами, в которых разрешался бы вопрос о виновности гражданско-правовой;
-
- в консолидации, уточнении научного мнения о тех или иных юридических понятиях, определениях, юридических конструкциях и иных правовых категориях. В частности, для развития правотворческого и правоприменительного языка ценными достижениями стали бы фиксация понятия и содержания таких юридических категорий, как правовой статус и правовой режим. В свою очередь, определение их структуры позволило бы предусмотреть в нормативных правовых актах последовательно и без упущений все элементы правового статуса того или иного субъекта права, а также сопоставить (сравнить) их с правовыми статусами иных субъектов
права. Например, в действующем законодательстве в структуре правового статуса депутата регионального парламента предусмотрена такая правовая гарантия, как неприкосновенность (пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации [16], ч. 2 ст. 1.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 447 Уголовно-процессуального кодекса РФ), которая выражается, в частности, в особом порядке привлечения народного избранника к административной и уголовной ответственности. Однако для губернаторов, которых в настоящее время с полным правом также можно назвать народными избранниками (более того, консолидированными, в отличие от депутатов, народными избранниками) – такая правовая гарантия не предусмотрена (что и стало одним из катализаторов народного недовольства в Хабаровске). Очевидно, что в отношении губернатора, который избирается на равных с депутатами, необходима аналогичная правовая гарантия, что устранило бы конституционный дисбаланс их правовых статусов, а внедрение в правотворческую деятельность искусственного интеллекта сразу позволило бы выявить множество аналогичных статутных несоответствий, в первую очередь – в отношении правовых статусов государственных служащих;
-
- в дальнейшей кодификации законодательства, в частности, гражданского исполнительного права и права социального обеспечения. Применение искусственного интеллекта возможно в указанных отраслях не столько в целях создания новых кодексов (Исполнительного и Социального), сколько в целях достижения на основе этих кодексов федерального единообразия правоприменительной практики в отношении как социальной защиты граждан, так и гражданского исполнительного производства. Например, в настоящее время резко активизировалось развитие социального законодательства: появилось множество новых мер социальной поддержки,
направленных на поддержание детства, материнства, инвалидности, а также профессиональной деятельности в условиях повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Такой подход привел к смешению многих форм, в результате чего одни семьи оказались получателями сразу нескольких пособий (в силу схожих оснований их назначения), другие – по-прежнему остаются без необходимой им социальной помощи, что также приводит к нарушению социальной справедливости. Поэтому представляется эффективным применение искусственного интеллекта в целях выявления категорий граждан, нуждающихся в расширении социальной защиты. Информационной основой такого применения должны стать данные, собранные в Едином регистре граждан Российской Федерации.
Еще одна аналитическая правовая система – «Legal Analytics Platform» (ныне принадлежит корпорации «Lex Machina»). В отличие от предшествующих аналитических правовых систем, эта система, как представляется, не несет полезной социальной функции (оптимизация труда юриста), а концентрируется лишь на «ме-таюридических» обстоятельствах спора и нацелена исключительно на поиск информации, позволяющей не столько разрешить дело по справедливости, сколько «выиграть» его в прямом смысле. Отсюда – характер предлагаемой информации по делу:
«Your opposing counsel’s experience before specific judges and courts,
Your opposing counsel’s client list
Which law firms have the most experience against opposing counsel» [17].
Как видно, аналитической правовой системой исследуется взаимодействие юриста противоположной стороны с определенными судами (судьями), а также перечень клиентов юриста противоположной стороны и перечень юристов (юридических фирм), которые имеют опыт противостояния юристу противной стороны. Для сравнения предлагаются также скорость разрешения дел, ведущихся различными юристами (юридическими организациями), суммы споров, в которых участвовал процессуальный противник (что для российской информационной системы представляется сложным в связи с исключением этих данных из текстов судебных актов), иная тактическая информация. Однако представляется, что данное приложение – образец того, какой не должна быть основанная на искусственном интеллекте справочная правовая система, поскольку ее целью является анализ именно внеюри-дических, процедурных элементов тактики юриста по делу, а не вопросы права, и использование такой, лишенной правового смысла, информации может быть направлено в большей мере на процессуальные злоупотребления, нежели на справедливое разрешение дела.
Таким образом, можно сделать вывод, что западный опыт создания аналитических правовых систем являет собой частный случай общего для России правила о необходимости осторожного подхода к его заимствованию и объективной оценки целесообразности такого заимствования. Однако тот факт, что в определенных своих элементах такое заимствование российской юридической практике необходимо – остается бесспорным.
Список литературы Проблемы развития искусственного интеллекта в правовом регулировании
- О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 // СПС «КонсультантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373440/c68afa1d5c7f37744d2dca2cb9f356 d1f2911d10/#dst100010 (дата обращения: 30.12.2022).
- О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406: Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 № 2351 // СПС «КонсультантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ (дата обращения: 10.12.2022).
- Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»»: утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7 // СПС «Консуль-тантПлюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_328854/#dst0 (дата обращения: 10.12.2022).
- Стрелец И. Цифровое правосудие в России и мире. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vc.ru/legal/104178-cifrovoe-pravosudie-v-rossii-i-mire (дата обращения: 10.12.2022).
- Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях. Принята на 31-м пленарном заседании Европейской комиссией по эффективности правосудия 03.12.2018 г. - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://rm.coe.mt/m-ethical-charter-en-version-17-12-2018-mdl-06092019-2-/16809860f4 (дата обращения: 10.12.2022).
- Зазулин А.И. Правовые и методологические основы использования цифровой информации в доказывании по уголовному делу: автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. -Екатеринбург, 2018. - 32 с.
- Бегишев И.Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифровой информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бегишев Ильдар Рустамович. - Казань, 2017. -204 с.
- Аносов А.В. Информационно-правовые вопросы формирования электронного правосудия в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.13 / Аносов Александр Владимирович. - Москва, 2016. - 179 с.
- Василькова С.В. Электронное правосудие в цивилистическом процессе: дис. ... канд. юрид. наук. - Санкт-Петербург, 2018. - 251 с.
- Данилова Н.А. Правовое регулирование электронного правительства в зарубежных странах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. - Москва, 2013. - 158 с.
- Иншакова Е.Г. «Электронное правительство» в публичном управлении: административно-правовые проблемы организации и функционирования: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.14 / Иншакова Екатерина Геннадьевна. - Воронеж, 2015. - 212 с.
- Киселев А.С. Формирование идеи электронного государства и особенности ее реализации: теоретико-правовое исследование: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.01 / Киселев Александр Сергеевич. - Тамбов, 2018. - 212 с.
- LexisNexis. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.lexisnexis.com/en-us/products/lexis-plus/litigation-analytics.page (дата обращения: 30.11.2022).
- Cue Ravel. AL Interview: Ravel and the AI Revolution in Legal Research / Ravel Cue // Artificiallawyer. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.artificiallawyer.com/ (дата обращения: 30.11.2022).
- Westlaw UK: The leading legal research service // Westlaw. - [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://legalsolutions.thomsonreuters.co.uk/en/products-services/westlaw-uk.html (дата обращения: 30.11.2022).
- Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (посл. ред. от 13.07.2020 № 194-ФЗ) // СПС «Консультант-Плюс». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ (дата обращения: 04.12.2022).
- Litigation World Reviews Lex Machina's Legal Analytics Platform // Legal Analytics Platform. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://lexmachina.com/legal-analytics/ (дата обращения: 30.11.2022).