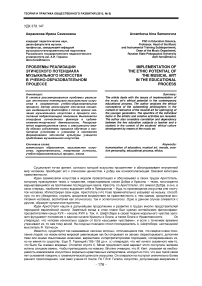Проблемы реализации этического потенциала музыкального искусства в учебно-образовательном процессе
Автор: Аврамкова Ирина Семеновна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Педагогические науки
Статья в выпуске: 8, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы реализации этического потенциала музыкального искусства в современном учебно-образовательном процессе. Автор анализирует этические концепции выдающихся философов с точки зрения значения музыкального искусства в процессе воспитания подрастающего поколения. Выявляется специфика личностного фактора в художественно-творческой деятельности. Раскрываются корреляционные связи и зависимости между обоими субъектами процесса обучения и воспитания (учителем и учеником) в контексте формирования этической культуры учащихся средствами музыкального искусства.
Гуманизация образования, музыкальное искусство, нравственность, творческая личность, учебно-образовательный процесс, этика
Короткий адрес: https://sciup.org/14935569
IDR: 14935569 | УДК: 378.147
Текст научной статьи Проблемы реализации этического потенциала музыкального искусства в учебно-образовательном процессе
Существует точка зрения, согласно которой искусство просветляет и облагораживает внутренний мир человека, приобщает его к этическим ценностям, к добру как основополагающей, базовой категории нравственности.
Идею взаимосвязи искусства и морали провозглашал и обосновывал в своих трудах Аристотель, которому принадлежит тезис о тождестве, нерасторжимом союзе Добра и Красоты – тезис, многократно варьировавшийся на протяжении последующих веков. Красота, по Аристотелю, это символ Добра, а оно, в свою очередь, наиболее полно выражает себя в Прекрасном – будь то произведение искусства или поступок человека. Иллюстрируя свои идеи, Аристотель (что тоже примечательно) указывал на музыку, способную, по его убеждению, служить средством воздействия на нравственность и, тем самым, средством воспитания человека, воспитания как этического, так и эстетического . Одно в данном случае сливается с другим, образует органичное единство.
Идеи Аристотеля нашли в дальнейшем продолжение и развитие в трудах многих представителей передовой европейской мысли. Заметный вклад в этом плане был сделан английскими философами-просветителями конца ХVII – начала ХVIII в. Так, А. Шефтсбери в своей теории морального чувства заложил фундамент положения о едином начале Красоты и Блага, а также Блага и Нравственности. Он утверждал, что человек изначально одарен от Бога «высшими чувствами», и если с течением времени утрачивает их, то сам тому виной. На сходных позициях стоял последователь А. Шефтсбери, шотландский мыслитель Ф. Хатчесон.
Известно, существуют так называемые «вечные истины», отличающиеся тем, что каждое новое поколение людей, на новом витке мировой цивилизации как бы открывает их заново (переоткрывает), дополняя теми или иными смысловыми нюансами, вариантами, интерпретаторскими подходами, «осовременивая» их, но не меняя по существу. Еще П. Теренций (185–159 до н. э.) утверждал, что нет ничего сказанного кем-то, что было бы сказано впервые. Столетия спустя С. Моэм предложил свой вариант этого постулата: великие истины слишком важны, чтобы претендовать на новизну. Вполне очевидно, что И. Кант, указывая на необходимость взаимосвязи искусства и морально-нравственных императивов, исходил из того, что вне такой связи нет оснований говорить о гуманистической ценности искусства. Он опирался на постулат значительно более раннего происхождения, чем само учение И. Канта. По Г.В.Ф. Гегелю, искусство, допускающее аморализм и безнравственность – не искусство. И.В. Гете и И.Ф. Шиллер, расходясь по ряду проблем, были едины в понимании одной из основных функций искусства: «Искусство оказывает нравственное действие не только потому, что доставляет удовольствие путем нравственных средств, но потому, что удовольствие, доставляемое искусством, служит само путем к нравственности» [1, с. 52–53].
Нравственный потенциал искусства был несомненен и для деятелей русской культуры – А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, их единомышленников и продолжателей. Поэзия, утверждал В.Г. Белинский, «в истинном, высшем значении своем не может быть безнравственной», поскольку она «необходимо сама в себе нравственна» [2, с. 226].
«Искусство в истинном, высшем значении своем не может быть безнравственным», разделить искусство и нравственность «так же невозможно, как разложить огонь на свет, теплоту и силу горения» [3]. Общение с искусством благоприятствует формированию и упрочению этических императивов. Это верно, как верно и то, что среди людей, профессионально занимающихся искусством, каждодневно и плотно общающихся с ним, никогда не было недостатка в завистниках, карьеристах, интриганах, сплетниках и т.п. «Даже самые выдающиеся музыканты представляют собой мозаику привлекательных и непривлекательных черт. Идеальные музыканты мне не встречались» [4, с. 320].
Слова В.Д. Ашкенази легко объяснимы. Людей отличают различные конфигурации характеров, неодинаковые представления о добре и зле, о хороших, достойных поступках и деяниях нехороших, недостойных. Не следует также недооценивать тот факт, что люди, добившиеся успеха в жизни, в профессиональной деятельности начинают нередко проникаться чувством исключительности, творческого превосходства. Характерными для них становятся: нарциссомания, амбициозность, зазнайство, неприятие критических и самокритических оценок. Неудачникам, напротив, присуща подчас завистливость, недоброжелательность в отношении своих более удачливых коллег (со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Конечно, встречаются личности, сознающие опасность подобных умонастроений, их негативное воздействие на самосознание и, соответственно, на свои взаимоотношения с окружающими. Такими личностями предпринимаются попытки противодействовать душевному негативизму, недоброжелательным чувствам, окрашивающим субъективную феноменологию психики преимущественно в черные тона. К сожалению, нельзя сказать, что таких людей больше в мире искусства. Скорее наоборот.
В специальной литературе можно встретить высказывания относительно особой роли личности в искусстве. Авторы этих высказываний утверждают, что, например, инженера может заменить при необходимости другой, столь же компетентный инженер; заменой одному администратору может стать другой, не уступающий первому по уровню знаний и умений, и т.д. Аналогичная ситуация во многих других сферах человеческой деятельности. В искусстве ситуация иная. Личность выдающегося композитора или исполнителя, режиссера или актера практически незаменима. Никто, даже при наличии максимально высокого уровня профессионализма, не смог бы «стать» С.Т. Рихтером или М.Л. Ростроповичем, Д.Ф. Ойстрахом или Е.Ф. Светлановым. Личности в искусстве уникальны. «Дактилоскопические узоры» из творческой деятельности являются единственными в своем роде и неповторимыми.
Следовательно, «известный принцип “незаменимых людей нет” справедлив по отношению ко всем областям деятельности кроме художественно-творческой» [5, с. 415]. Отличительное свойство личности в искусстве – наличие этического компонента, являющегося своего рода регулятивом ее творческой деятельности. Исключениями из этого правила только подтверждается наличие и закономерность последнего.
Существуют различные дефиниции категории «личность», разнонаправленные подходы и толкования этой категории. Так, С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что личностью может именоваться лишь субъект, обладающий развитым сознанием и самосознанием: «Без сознания и самосознания не существует личности. Личность как сознательный субъект осознает не только окружающее, но и себя в своем отношении к окружающим» [6, с. 238].
Сказанное С.Л. Рубинштейном относительно осознания себя в своих отношениях с окружающий средой может рассматриваться как важный аспект этической проблематики. Последняя должна быть предметом самоанализа и осмысления личности, определяющим разноуровневый комплекс ее взаимоотношений с окружающим миром.
В трудах А.В. Петровского личность трактуется в качестве активного преобразователя окружающей действительности и субъекта познания, рассматривающего себя не только в контексте собственной жизнедеятельности, но и как участника в жизнедеятельности других людей, продолжающим свое существование в них [7, с. 189].
Большой интерес к проблеме личности проявляла и Л.И. Божович. С ее точки зрения личность характеризуют развитые функции аморазвития, самодетерминации, саморегуляции. Они позволяют определять стратегические направления жизнедеятельности человека в онтогенезе и далее продуктивно реализовать их, руководствуясь при этом не только «хочу», но и «должен».
Заметный вклад в концепцию личности был внесен В.В. Давыдовым, автором широко известных работ «Проблемы развивающего обучения» (1986) и «Теория развивающего обучения (1996). Примечательной особенностью позиции В.В. Давыдова явилось, в частности, положение, согласно которому «сущность личности человека связана с его творческими возможностями» [8, с. 82], которые трактуются автором широко и многопланово. Личность, по В.В. Давыдову, испытывает потребность в созидании, включая и самосозидание, из чего следует, что «творческое отношение человека к задачам», возникающим в различных видах его деятельности, в том числе и связанным с созиданием самого себя, «служит подлинным показателем сформированности у него основ личности» [9].
Анализ воззрений современных российских педагогов и психологов на проблему личности показывает, что сегодня все более явственно проступают идеи отечественных мыслителей прошлого (В.С. Соло- вьев, Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин и другие), идеи, которые в силу известных обстоятельств были изъяты в свое время из научно-практического обихода. Все чаще обращаются современные авторы к категории духовности, трактуя ее как основополагающую, базовую категорию воспитания, прежде всего этического. Все яснее становится то, что это воспитание даст эффект лишь при условии, что будет рассматриваться в качестве стратегической цели работы преподавателя – не побочной, не косвенной, а системообразующей, регулирующей совместную, интегративную деятельность всех основных компонентов учебно-воспитательного процесса.
Как воспитывать современную молодежь – одна из вечных тем в теории и практике воспитания, служащая предметом острых дискуссий педагогов, психологов, социологов и других. Именно как , посредством каких методик и технологий, поскольку другие аспекты проблемы, если и вызывают несовпадающие суждения и мнения, все же не столь дискуссионные по своей природе.
Достаточно ясно то, как не надо воспитывать. Назидательные беседы, наскучившие поучения и наставления – весь этот стандартный набор, к которому привычно прибегали воспитатели всех рангов в советские времена, сегодня фактически не эффективны. Практика общения с современным юношеством показывает, что целесообразны ныне не прямолинейные, «лобовые» воспитательные стратегии, а основанные на принципе косвенного, опосредованного воздействия, иначе говоря, на принципе «обходного маневра».
Не является секретом тот факт, что в современной России ощутимо сдает свои позиции гуманитарное образование. Все более заметными становятся технократические ориентации в образовании, актуальность и значимость которых, с одной стороны, сомнений не вызывает, в то время как детерминированные ими и сопутствующие негативные последствия не менее заметны и существенны. Духовную и творческую неразвитость, отсутствие подлинно высоких духовных потребностей, как справедливо считает Б.М. Неменский, компенсировать с помощью компьютеров не удастся. Разумеется, было бы глубоко ошибочным (если не сказать больше) утверждать, что каждый так называемый «технократ» является человеком морально ущербным и неполноценным. Речь в данном случае: о дисбалансе между двумя основными ветвями в современной российской системе образования. Оснований для тревоги было бы меньше, если технократический направленности, о которой говорилось выше, имелся бы противовес в виде гуманистически ориентированного образования. Последнее, вбирая в себя духовность, культуру, межличностную аттракцию, инициируя сферу эмоций и чувств, выходит на те этические ценности, которые «по умолчанию» отсутствуют в идеологии и практике технократизма. Тем самым оно по всем основным параметрам реализует воспитательные функции образования, включая и относящиеся к сфере морали и нравственности. Практически все базовые, смыслообразующие положения, характеризующие гуманизацию образования, могут рассматриваться одновременно как положения, имеющие отношение к этическому воспитанию, так и наоборот.
Закономерен вопрос: в какой мере воспитательный потенциал искусства проявляет себя в учебнообразовательном процессе, в частности, в процессе музыкальных занятий? Исходя из всего сказанного выше, этические, духовно облагораживающие функции искусства должны действовать как в концертном зале, театре, музее и т.д., так и в учебной аудитории.
Образцы высокого искусства обладают способностью одухотворять, морально возвышать тех, кто соприкасается с ними. Иной вопрос, что не все люди обладают способностью адекватно воспринимать, ассимилировать в себе уникальные «дары» искусства.
Не исключено, что таких людей стало бы больше, если дисциплины художественно-творческого цикла занимали бы видное место в иерархии учебных дисциплин, образующих структуру современной системы российского образования. С сожалением приходится констатировать, однако, что пространство художественной культуры и, соответственно, учебных дисциплин, представляющих ее, сегодня неуклонно сужается, сжимаясь подобно шагреневой коже.
Есть и другое обстоятельство, также достаточно важное. Воспитательные функции дисциплин гуманитарного цикла, включая и дисциплины художественно творческого профиля, реализуются далеко не всегда. Нужный эффект достигается лишь на достаточно высоком качественном уровне обучения. Только в этом случае положения, относящиеся к гуманизации обучения, дают основания рассматривать их как положения, сопричастные к этическому воспитанию.
Рассматривая проблему с различных сторон и точек зрения, нельзя не прийти к выводу: невнимание к этическому воспитанию молодежи чревато самыми серьезными последствиями. Доказательств тому сегодня более чем достаточно. Природа, как известно, не терпит пустоты, и социальное сознание людей не исключение из правила: при отсутствии позитивных воздействий их место занимают прямо противоположные. Сказанное вполне аксиоматично, как и еще одно положение, а именно: педагог должен быть примером для своих воспитанников, иметь высоконравственное отношения к окружающим.
Однако верно и то, что творческая деятельность – а педагогическая работа в музыкальных учебных заведениях именно таковой и является – требует время от времени критической рефлексии и самокор-рекции. Любая устоявшаяся форма работы, писал в свое время М.С. Каган, «призывает» человека, занимающегося ею, «признать и принять ее, остановиться на ней, удовлетвориться ей – ведь она уже существует, уже найдена». Пример многих педагогов-музыкантов свидетельствует, что далеко не всегда можно удовлетворяться «существующим и найденным» потому, что не требует доказательства факт того, что это воспитание должно распространяться на всех обучающихся, независимо от того, на что ориентировано их обучение – на продолжение занятий в профессиональных учебных заведениях или на общехудожественное, эстетическое развитие.
В последние годы вышло в свет достаточно много изданий, содержащих различные рекомендации по улучшению этического воспитания учащихся. Однако опросы учителей-практиков свидетельствуют, что реальной методологической основой обучения и воспитания служит лишь небольшая часть этих изданий.
Те из них, которые содержат лишь общие, абстрактные положения, столь же правильные, сколь и общеизвестные, малоэффективные в практическом отношении остаются, как правило, на обочине внимания педагогического сообщества. Более успешно складываются судьбы работ, в которых предлагается и обосновывается реальный психолого-педагогический инструментарий для решения реальных воспитательных проблем; инструментарий, ориентированный на использование его в рамках той или иной учебной дисциплины, соотносящийся с ее спецификой.
Понятно, что формы и методы воспитания учащихся на занятиях по истории (или, скажем, юриспруденции, медицине и т.д.) не могут быть полностью идентичными методологии работы в музыкальноисполнительских классах музыкальных учебных заведений. Вариабельность приемов и способов педагогической деятельности в данном случае практически неизбежна. Из сказанного следует, что результативность работы, ориентированной на этическое воспитание, во многом будет зависеть от того, в какой степени эта работа окажется релевантной специфике той или иной учебной дисциплине, будет соответствовать ее атрибутивным особенностям и свойствам, впишется в логику ее освоения.
Разумеется, есть достаточно обобщенные, универсальные методы учебно-воспитательной практики, продуктивно действующие в различных условиях, вне зависимости от контекста, определяемого той или иной учебной дисциплиной и ее профилем. Однако есть и другие, органично связанные со спецификой «контекста».
Иногда приходится сталкиваться с сомнениями в воспитательном потенциале музыки: способно ли «искусство звуков» с его невербальной, не понятийной спецификой осуществлять воспитательные функции в полном их объеме и многообразии. Сомнения подобного рода лишены каких-либо оснований. Более того, музыка создает исключительно благоприятные условия для формирования тех душевных качеств и свойств, которые подчас с трудом поддаются иным, вполне традиционным видам воздействия на человека. Музыка, по Л.С. Выготскому, «действует просто катарсически, то есть проясняя, очищая психику, раскрывая и вызывая к жизни огромные и до того подавленные и стесненные силы <…>, она раскрывает путь и расчищает дорогу самым глубоко лежащим нашим силам» [10, с. 320–321].
Суждения такого рода нетрудно множить. Иной вопрос, как используются эти силы, каков их реальный коэффициент полезного действия в реальной практике обучения. Обращаясь к этой стороне дела, необходимо вновь коснуться некоторых «болевых точек» преподавания музыки и музыкального воспитания.
Ранее уже шла речь о тех негативных явлениях, которые сопряжены с узконаправленной, ремесленнической ориентацией в обучении музыке. Последствия обозначенных негативных явлений шире и пагубнее, чем это может показаться на первый взгляд – они затрагивают не только учащихся Детских музыкальных школ и училищ (колледжей), но и тех молодых людей, которые получают высшее образование в российских музыкально-педагогических и вузах искусств.
Будет уместно заметить, что те явления, о которых говорится применительно к преподаванию музыки, во многом характеризуют и общее состояние дел в отечественной системе образования в целом, являясь частным проявлением более общих, генерализированных тенденций, присущих этой системе. Цели современного российского образования, справедливо замечает Б.С. Гершунский, «локальны, они не вписываются в сложную иерархию соподчиненности и преемственности целевых установок образования в целом. Каждая из них сама по себе может быть вполне разумной и правильной, но это как раз тот случай, когда “за деревьями не видят <…> леса”» [11, с. 102].
Еще несколько десятилетий назад эта ситуация не вызывала сомнений в своей правомерности. Точнее сказать, не вставал столь остро вопрос, что считать основным и главным в обучении музыке. Сегодня, в связи с серьезными и далеко идущими изменениями в культурном контексте российского социума, изменениями на рынке труда, подобная ситуация выглядит аномалией. Традиционные установки и методологические подходы явно не соответствуют духу времени, его запросам и требованиям.
Укажем на два обстоятельства. Суть первого из них в том, что знания и умения, отмеченные узкой направленностью, ориентацией на решение сугубо технологических задач, зачастую остаются невостребованными в той реальной действительности, в том праксисе, с которым приходится сталкиваться молодым музыкантам по завершении учебы. Налицо рассогласованность между тем, чему учили молодежь, и чем ей приходится заниматься за пределами образовательного учреждения. Ситуация осложняется и тем, что у молодых специалистов зачастую возникает потребность в тех ресурсах знаний и практических умениях, которые ранее, в годы учебы, пребывали вне поля зрения преподавателей и составителей учебнообразовательной документации типа «стандартов», программ и т.п.
И второе обстоятельство, не менее существенное, чем первое. Концентрация на технологии, поглощающая основное внимание, силы и время педагога, фактически не оставляет ему возможности заниматься чем-либо другим, решать задачи, имеющие отношение к актуализации индивидуально-личностных качеств обучающихся, формированию их этического облика. Сосредоточенность на одном не оставляет места для сосредоточения на другом.
У древних философов был в ходу афоризм: «для мореплавателя, не знающего своей цели, ни один ветер не будет попутным». Размытость целевых установок в работе с обучающимися очевидная ошибочность этих установок является одной из основных причин тех неверных, контрпродуктивных подходов и «узких мест» в преподавании музыки. Б.С. Гершунский, чья точка зрения на происходящее излагалась выше, добавляет к сказанному им: «Совершенно очевидно, что, не определившись в целях, в иерархической структуре образовательного целеполагания, не удастся с должной логической последовательностью и преемственностью вести аргументированный, доказательный поиск всех остальных содержательно-процессуальных и организационно-управленческих компонентов образовательной деятельности. Иными словами, не обозначив целей образования, невозможно, да и бессмысленно искать средства достижения этих целей» [12].
Может последовать вполне резонный вопрос: о каких целевых ориентирах, тем более конкретных ориентирах, может идти речь, если выпускникам российских вузов зачастую неведомо, где они смогут трудоустроиться, каким видом деятельности им предстоит заниматься. Статистические данные, относящиеся к молодежи, которая сегодня работает не по специальности, полученной в вузе, существенно разнятся, однако во всех вариантах они выглядят весьма впечатляюще, подчас шокирующее. Из чего следует, что любая конкретизация и предметная ориентировка обучающегося на тот или иной вид профессиональной деятельности может оказаться не вполне точной. Проще прописать специальность выпускника вуза в его дипломе, отмечают люди сведущие, чем предсказать, какой она реально будет в условиях рынка труда, в рамках динамично меняющейся окружающей среды.
В чем же выход? С одной стороны, не определившись с целями обучения, трудно рассчитывать на результативность последнего, на его высокий качественный уровень. С другой стороны, в ситуации, характеризующейся неопределенностью, стохастичностью профессиональных перспектив, проблема педагогического целеполагания сегодня не просто актуализируется, она существенно усложняется, обретает вариативность, многомерность.
Скорее всего, прав будет педагог, который, не уходя от обязанности (целевого ориентира) вооружить своего питомца всеми необходимыми профессиональными знаниями и умениями (компетенциями), будет одновременно исходить из следующего. Реализовать свои возможности, свой креативный потенциал сумеет в наше время всесторонне образованный человек, обладающий современным мышлением и, при всем том, способный выстраивать взаимоотношения с окружающими на основе социально-психологического оптимума и гуманистического мировосприятия, умеющий вести содержательный диалог с окружающим миром и самим собой, настроенный на органичное сочетание своих интересов с интересами других.
Что касается профессионального музыкального образования, то с учетом сказанного выше следует отметить, что оно должно представлять собой нечто большее, чем комплекс специальных знаний и профессиональных умений. Равным образом, универсальная художественно-творческая культура, на формирование которой должен ориентироваться педагог, работая с учащимся, есть нечто принципиально иное, чем профессиональное музыкальное образование. Неверно думать, что методология обучения, основанная на приоритете технологизма, наносит урон только обучающемуся; дисквалифицируется, в конечном счете, и педагог. В противоположность этому высококлассная художественно-творческая педагогика, преследующая многообразные, разноуровневые и далеко идущие учебно-воспитательные цели, включая этические, обогащает и возвышает одновременно и того, кто учится, и того, кто учит. В этом аспекте корреляционные связи и зависимости между обоими субъектами процесса обучения и воспитания, учителем и учеником, могут рассматриваться как факт, не подлежащий сомнению, хотя и малоизученный.
Ссылки:
-
1. Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М.-Л., 1935. 286 с.
-
2. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13-ти т. М., 1954. Т. 5. 963 с.
-
3. Там же. С. 406.
-
4. Барбан Е.С. Контакты. Собрание интервью. СПб., 2006. 472 с.
-
5. Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971. 763 с.
-
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. М., 1989. Т. 2. 488 с.
-
7. Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1985. 430 с.
-
8. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986. 240 с.
-
9. Там же. С. 83.
-
10. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968. 576 с.
-
11. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. М., 1998. 608 с.
-
12. Там же. С. 101.