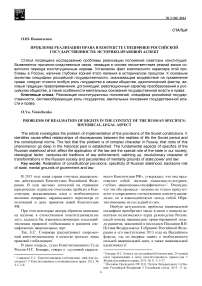Проблемы реализации права в контексте специфики российской государственности: историко-правовой аспект
Автор: Винниченко О.Ю.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (36), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию проблемы реализации положений советских конституций. Выявляются причинно-следственные связи, лежащие в основе несоответствия реалий жизни советского периода конституционным нормам. Установлен факт комплексного характера этой проблемы в России, наличие глубоких корней этого явления в историческом прошлом. К основным аспектам специфики российской государственности, оказывающим воздействие на применение права, следует отнести особую роль государства в нашем обществе, идеологический фактор, вековые традиции правоприменения, догоняющий, революционный характер преобразований в российском обществе, а также особенности ментальных оснований государственной власти и права.
Реализация конституционных положений, специфика российской государственности, системообразующая роль государства, ментальные основания государственной власти и права
Короткий адрес: https://sciup.org/142232521
IDR: 142232521
Текст научной статьи Проблемы реализации права в контексте специфики российской государственности: историко-правовой аспект
В 2013 году наша страна отмечала двадцатилетие действующей Конституции Российской Федерации. В ходе научных дискуссий на страницах юридических журналов отмечались пробелы в Конституции, высказывались идеи о необходимости внесения поправок, кардинального пересмотра ее положений и даже принятия новой Конституции РФ.
При этом некоторые авторы обратили внимание на наличие в отечественном конституционализме двух, казалось бы, взаимоисключающих тенденций: эволюции правовой глобализации и развития специфических национальных черт.
Так, Е.С. Смирнова рассматривает современный конституционализм в качестве третьего этапа правовой глобализации1.
В свою очередь, судья Конституционного Суда России Н.С. Бондарь, говоря о «духовной сакраль-
-
1 Смирнова Е.С. Конституционная глобалистика: миф или реальность? // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 4. С.2-8.
ности Конституции РФ», утверждает, что она представляет собой «явление социально-культурное, глубоко национально-специфическое»2. Очевидно, что эти оба процесса - явления не только присутствуют в современном отечественном конституционализме, но и взаимодействуют между собой. Обратим внимание на последний из них.
Особую актуальность проблема национальной специфики приобретает также в связи с новыми аспектами политического курса руководства России: идеей поиска национально ориентированной модели развития, заявленной в последнем Послании В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и его выступлении 2013 года на Валдайском форуме, где он впервые заявил о необходимости сильной национальной идеи, а также национальной идентичности3.
-
2 Бондарь Н.С. Буква и дух российской Конституции: 20-летний опыт гармонизации в свете конституционного правосудия // Журнал российского права. 2013. № 11. С.5-17.
-
3 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2013. 13 де-
Для понимания современных проблем в реализации конституционных положений интересно было бы обратиться к историко-правовому опыту. В качестве объекта рассмотрим Конституции СССР 1936 и 1977 г.г. Основным конституционным идеалом здесь выступило преобразование общества и государства на социалистических началах, что предполагало верховенство общегосударственной собственности, приоритет интересов государства. Вместе с тем тексты Конституций воплотили в себе основные гуманитарные идеи и представляли идеал для многих зарубежных государств того времени. Реализация же этих положений в России оставляла желать лучшего. Представляется, что искать причины этого парадокса следует не столько в субъективном факторе (мотивах и действиях людей), сколько в особенностях нашего общества. Целевая установка данной статьи: обозначить проблему взаимосвязи правоприменения конституционных положений и самобытных черт российской государственности.
Действительно, в Конституциях СССР 1936 и 1977 г.г. была зафиксирована стройная, демократичная система государственной власти, основанная на широком участии народных масс в осуществлении государственных функций4. Согласно Конституции 1936 г. органы государственной власти СССР впервые в российской истории формировались народным волеизъявлением на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (ст. 134). С целью обеспечения равного представительства больших и малых этнических групп в органах государственной власти, Верховный Совет СССР включал в себя две палаты: Совет Союза и Совет Национальностей (ст.ст.3335). Конституция 1977 года, в свою очередь, провозгласила, что вся власть в СССР принадлежит народу, который осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющих политическую основу СССР (ст.ст. 1,2). Организация и деятельность Советского государства должны были осуществляться в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм предполагал также сочетание единого руководства с инициативой и творческой активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело (ст.З). Наи- кабря; Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседании клуба «Валдай» // Российская газета. 2013. 20 сентября.
4 Конституция (Основной закон) СССР 1936 года; Конституция (Основной закон) СССР 1977 года // Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. Ю.П. Титов. М.,'2007. С.347-361; С.378-404.
более важные вопросы государственной жизни должны были выноситься на всенародное обсуждение, проходить через всенародное голосование (референдум) (ст.5). В основу регулирования отношений был положен принцип социалистической законности (ст.4), то есть провозглашалось требование единого соблюдения законов всеми субъектами правоотношений.
Конституции СССР нормативно закрепляли равноправие граждан, которое должно было обеспечиваться во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни, а также большой круг прав и свобод граждан страны: на труд, отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение в старости, на жилище, образование и проч.
В целом, если ознакомиться с текстами советских конституций, создается достаточно благоприятное впечатление о политическом устройстве страны, о широких возможностях жителей страны участвовать в политической жизни, о фундаментальном подходе к провозглашению основных прав и свобод граждан. При условии реализации данных конституционных положений можно было говорить о материализации коммунистической идеи, в какой-то мере - о достижении идеалов социалистов-утопистов Т. Мора, Т. Кампанеллы.
Однако реальное положение дел с достижением этих целевых установок оставляло желать лучшего, если не сказать больше: реалии советской жизни порой представляли совершенно противоположный вариант прописанным в конституциях постулатам. Вступление в действие положений Конституции СССР 1936 года сопровождалось пиком сталинских репрессий, когда десятки тысяч невинных людей без суда и следствия подвергались казни или тюремному заключению. Можно вспомнить и о других аспектах тоталитарного политического режима в СССР, но это выйдет за пределы тематики статьи. Ограничимся лишь констатацией этих фактов. При этом возникает множество вопросов. В чем заключаются основные причины несоответствия реалий жизни советского периода конституционным нормам? В какой плоскости лежат эти причинноследственные связи: в юридической, политической, социокультурной? Названные противоречия можно отнести исключительно к советскому периоду с его коммунистической спецификой или же эти явления представляют собой «родимые пятна» нашего общества в целом? Постараемся ответить на эти вопросы. Применительно к советскому периоду наиболее явной чертой общества было господство государственной идеологии, которая определяла многие особенные черты того времени. В основу советской правовой системы закладывались теоретические взгляды на феномен права и правовое развитие, во многом отличные от принципов, выработан- 7

ных в западной юридической науке. В соответствии с марксистско-ленинской идеологией, право, как и государство, воспринималось в качестве орудия в руках господствующего класса, которое было предназначено для подавления сопротивления классов эксплуатируемых и которое со временем должно было вместе с государством отмереть. Несмотря на некоторое видоизменение этой доктрины в 1930-е годы, ее присутствие было заметно в течение всего советского периода.
Это проявлялось, в первую очередь, в наличии большого количества внеправовых регулятивов: акты Коммунистической партии, директивные указания и проч. Идеология «революционного правосознания», «революционной целесообразности», противостоящая правовой доктрине, фактически действовала и после окончания периода «военного коммунизма». Результаты деятельности внесудебных сталинских органов 1930-х годов являются подтверждением этого. И.В. Абдурахманова, посвятив свой научный труд исследованию трансформации массового правосознания в России в первой четверти XX века, достаточно полно раскрывает характерные черты данного явления, среди которых наиболее важными признаками, на наш взгляд, являются: детерминированность идеологическим и морально-революционным началам, негативное отношение к действующим нормативным правовым актам, подмена законности революционной целесо-образностью5. Отмеченные особенности советской модели феномена права как регулятора социальных отношений по сравнению с классической (западноевропейской) не являются уникальным явлением в истории российского общества. Представляется, что истоки этого следует искать в далеком прошлом: в монгольском и византийском наследии.
Обратимся к классикам отечественной юридической науки. Важную роль в формировании специфических черт российской государственности и права известный ученый-юрист XIX века JI.A. Тихомиров определяет византийскому влиянию6. Византизм в государстве означает самодержавие, в религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном отношении византийский идеал связан со страданием, с отрицанием надежды на земное счастье, на всеобщее благоденствие народов. Христианство, принятое в византийском варианте, освящало власть сначала великих князей, а затем - царей, императоров российских. Легитимность власти, данной от Бога, в основе своей не подлежала сомнению в христианской
5 Абдурахманова И.В. Трансформация массового правосознания в России в первой четверти XX в.: историко-правовой аспект: Автореф. дисс.... д.ю.н. - Ростов-на-Дону, 2009. С.24-25. 0 Тихомиров JI.A. Монархическая государственность. М., 2006. С.279-280, 342.
стране. Русское самодержавие подчеркивало свою преемственную связь именно с византийскими императорами. Вместе с православием, самодержавием славяне заимствовали у Византии и правовую доктрину. Необходимо отметить существенное различие в основах социальной регуляции между Западной и Восточной (Византией) Римскими империями. В истории человечества известны две модели такой регуляции. В одной из них, Западной, в качестве фундамента социальной регуляции положено право. При этом право понимается как основной общественный договор, как всеобщий и нерушимый регулятор. Оно носит всеобщий характер, то есть уравнивает всех, гарантирует каждому человеку неотъемлемые права и трактует его обязанности. В пределах данной модели все социальные группы, властные структуры вынуждены существовать и достигать своих целей в рамках права.
В другой модели, Византийской, в основание социальной регуляции положена иерархия, то есть власть. Власть также порождает право, однако оно носит чисто инструментальный характер, направлено сверху вниз. Источник права (Власть) при этом находится вне и над правом. Закон на Востоке был волей сакральной инстанции. Личности оставалось лишь исполнять ниспосланную свыше норму. Римское право в Византии сохранялось и кодифицировалось, однако византийская законность никогда не смогла перерасти в Право с большой буквы, так как была подчинена задачам и велениям Власти. Окончательное воплощение в России принципа вне-законной силы произойдет лишь с XVI века: в самодержавии этот принцип обретет государственную форму. Монгольское влияние не вызывает сомнений. Оно не афишировалось и скорее всего не осознавалось. Московская Русь институционализировала принцип применения силы в самодержавной форме правления и при этом оставалась православной христианской страной. Идеологически и культурно она была связана не с Ордой, а - с Византией. Заимствование у монголов идеи надзаконной и бесконтрольной силы легитимировалось греческой верой. Этот феномен достаточно основательно исследовался российскими учеными А. Ахиезе-ром, И. КлямкиныIм, И. Яковенко. «Русский цивилизационный проект, - полагали авторы концепции, - возникал на пересечении ордынской и византийской традиций, был результатом их синтезирования. Но он ни одну из них не воспроизводил буквально, подвергая их существенным коррекциям»7.
-
7 Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М., 2005. С. 190-213.
В данной системе отношений подданные московского князя, а затем - царя, независимо от общественного положения, считались холопами монарха. Ни одно из сословий московской Руси не было свободным. Каждый подданный был включен в своеобразную пирамиду иерархической личной зависимости, вершиной которой был государь. Подобное положение с некоторыми видоизменениями сохранилось и в императорский период.
Советский этап эволюции российской государственности и права, при внешнем отрицании преемственности с дореволюционной эпохой, характеризовался сохранением принципа применения надзаконной силы в системе общественных отношений. Наиболее ярким примером этого может служить отсутствие нормативно-правовой регламентации основной политической силы общества - Коммунистической партии и ее лидера, который мог не занимать никакой государственной должности, но де-факто имел статус главы государства. Действительно, деятельность партии регулировалась в самом общем виде лишь ст. 126 Конституции СССР 1936 г. («передовой отряд трудящихся, руководящее ядро всех организаций трудящихся») и ст .6 Конституции СССР 1977 г. («руководящая и направляющая сила советского общества, ядро политической системы»). Глава Коммунистической партии был ограничен в своих действиях лишь внутрипартийным актом -Уставом. В то же время постановления Центрального комитета партии носили признаки нормативности, а Генеральный секретарь ЦК КПСС осуществлял в полной мере функции руководителя страны.
Приоритет интересов государства, верховенство общегосударственной собственности, прописанные в советских конституциях, тоже не имели существенной новизны для послереволюционной России. Отечественным ученым Н.Я. Эйдельманом был введен в научный оборот термин «революция сверху в России»8. Под этим термином автор имеет в виду особую, определяющую роль государственных институтов в жизни российского общества на протяжении нескольких веков, а также своеобразный характер проведения реформ. Как правило в России за короткое время по инициативе государства происходили существенные изменения: коренная ломка отношений социальных, экономических, политических структур. Революционный тип этих преобразований был обусловлен не только стремлением догнать стремительно развивающийся Запад, но и отсутствием, недостатком гибких механизмов регулирования общественного развития. Для России характерна была сверхцентрализация государственной власти, подавляющая всякое самоуправление. Недостаточность предпосылок, теории, опыта демо-
-
8 Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М., 1989.
кратических преобразований компенсировались революционной инициативой государства, которая в большей степени выглядела как ситуационное поведение, своего рода «ответ» на «вызов времени». Государство-революция действовало методом проб и ошибок, определяя оптимальные формы движения. Как следствие этого - разрыв линий коммуникаций в обществе (раскол) между государственной властью и обществом, огромное отчуждение культур. В западноевропейских странах баланс государственной власти поддерживался городским самоуправлением, судами, обуржуазившимся дворянством. Земские соборы, Боярская дума, конечно же, пытались ограничить власть русского царя. Какое-то время монарх терпел их рекомендации, так как нуждался в поддержке единомышленников, нужны были деньги на ведение войн. При первой возможности государь российский обрушивал террор на всех, кто был носителем хотя бы некоторой самостоятельности, свободы. Верховный Совет СССР как высший представительный орган государственной власти советской эпохи, равно как и суды, общественные организации, также не были препятствием для реализации воли Первого, а затем и Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии.
Главными субъектами преобразований были государство и реформаторская часть правящего класса, начинавшие «революцию сверху». Огромна роль государственных институтов, сверхцентрализации государственной власти в реформировании российского общества.
Именно по инициативе и под руководством государства происходили эти качественные рывки, которые были основаны преимущественно на насилии, причудливом сочетании ростков новых отношений с укреплением традиционных основ общественной жизни. Преобразования, идущие сверху, достигались большой ценой. Со времен Петра I неестественный для Западной Европы характер преобразований (революционно, сверху - вниз, при доминирующей роли государства, без постепенного вызревания предпосылок) для России станет явлением обычным. Важной чертой российских модернизаций был избирательный характер заимствований чужой культуры: преобразования проводились преимущественно в военно-технической сфере, социальные же реформы были целиком подчинены задачам индустриального рывка. Право как феномен культуры неразрывно связано с менталитетом народа. Правовая жизнь общества, ее специфичность в значительной мере обусловлены особенностями правового менталитета. Именно правовой менталитет способен обеспечить единство и целостность правовой системы. В основе правореализа-ции лежат правоментальные установки. К особенностям правовой ментальности россиян следует от- нести гипертрофию (абсолютное преувеличение) надежд на верховную власть, малую самостоятельность, низкую ответственность россиян за свою судьбу. Точку опоры политической воли россиянин склонен выносить вовне, связывая ее с верховной государственной властью. Вмешательство государственной власти во все сферы жизни все еще отвечает психологической потребности россиян. С этим связано такое российское явление, как патернализм - тип руководства, при котором руководители обеспечивают удовлетворение потребностей подчиненных взамен за их лояльность и послушание; осуществляется покровительство, «отеческая власть» индивида над другим индивидом или группой, считающихся слабыми.
Представитель русской научной юридической мысли начала XX в. Н.А. Захаров придавал большое значение особенностям ментальности нации, ее тесной взаимосвязи с политической организацией нашего общества. Рассматривая правоментальные основания государственной власти в России, он пророчески утверждал: «Понятие о верховном главенстве царской власти росло веками, вот почему самодержавие можно вычеркнуть из основных законов, самодержец может от него отречься сам, но это будет актом односторонним; чтобы это понятие исчезло, необходимо изгладить еще его и из сознания народного, так как сознание народное в своем правообразующем движении всегда может восстановить пропущенное в тексте законов понятие. Лишь двусторонний отказ может изгладить понятие самодержавия в основном его смысле без всех атрибутов, приписываемых ему теорией, подчиненных идее западного абсолютизма»9. Истинность этого положения проверена временем.
Итак, подведем итоги изложенного материала о взаимосвязи правоприменения конституционных положений и самобытных черт российской государственности. Очевидным является факт комплексного характера этой проблемы в России, наличие глубоких причинно-следственных связей в историческом прошлом, а, соответственно, и отсутствие простых решений. Особая, системообразующая роль государства в нашем обществе была обусловлена отсутствием баланса государственной власти: противовес воле государства, государя в виде независимых судов, институтов гражданского общества на протяжении многих веков находился в зачаточном
-
9 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. М., 2002. С.319.
состоянии. Государственные институты, бюрократия сами определяли, какую часть норм права и в какой последовательности выполнять. Обоснование этого положения дел и объяснения для создания позитивной картины (идеологические, политические, юридические и проч.) успешно давали ученые философы, политологи, юристы. Примером могут служить решения всесоюзного совещания 1938 г. по вопросам государства и права, которое было созвано по инициативе известного советского юриста А.Я. Вышинского. В итоговых документах этого совещания обосновывалось наличие особого исторического типа права (советского права), законы рассматривались как орудие в руках государства, а точнее - правящей большевистской партии. Избирательность в реализации правовых норм советского периода была обусловлена также идеологическим фактором. Коммунистическая идеология определяла решающую роль государственному насилию (диктатуре пролетариата) в строительстве будущего общества. Право при этом подменялось «революционной целесообразностью», действовала идеология «революционного правосознания». Традиция правоприменения в России имела свои особенности. Важным регулятором общественных отношений в течение нескольких веков была иерархия, то есть Власть. Право целиком было подчинено велениям Власти, что приводило к избирательному исполнению норм права в зависимости от потребностей действующей власти, от интересов отдельных социальных групп из властных структур.
Как следствие этого - отсутствие единого правового пространства, в первую очередь, по социальным группам населения России. Специфика характера преобразований в российском обществе (догоняющий, революционный) обусловила избирательный тип заимствования элементов чужой культуры в эпохи модернизационных рывков, что, свою очередь, отразилось на приоритетах правореализа-ции. Особенности ментальных оснований государственной власти и права в России также оказали влияние на реализацию правовых норм.
Понимание комплексного характера проблемы реализации конституционных положений в России, глубоких объективно-исторических корней этого явления в нашем обществе поможет не только в объяснении многих явлений юридической действительности, но и в преодолении трудностей становления правового государства в нашей стране.
Список литературы Проблемы реализации права в контексте специфики российской государственности: историко-правовой аспект
- Абдурахманова И.В. Трансформация массового правосознания в России в первой четверти XX в.: историко-правовой аспект: Автореф. дисс. … д.ю.н. - Ростов-на-Дону, 2009.
- EDN: QEEFFF
- Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М., 2005.
- EDN: QPCOCP
- Бондарь Н.С. Буква и дух российской Конституции: 20-летний опыт гармонизации в свете конституционного правосудия.Журнал российского права. 2013. №11.
- EDN: ROVUTX
- Захаров Н.А. Система русской государственной власти. М., 2002.
- Конституция (Основной закон) СССР 1936 года; Конституция (Основной закон) СССР 1977 года.Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. Ю.П. Титов. М., 2007.
- Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.Российская газета. 2013. 13 декабря; Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседании клуба «Валдай».Российская газета. 2013. 20 сентября.
- Смирнова Е.С. Конституционная глобалистика: миф или реальность? Конституционное и муниципальное право. 2012. № 4.
- EDN: OXRIIT
- Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 2006.
- Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М., 1989.