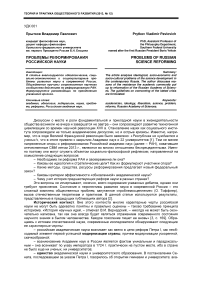Проблемы реформирования российской науки
Автор: Прытков Владимир Павлович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются идеологические, социально-экономические и социокультурные проблемы развития науки в современной России. Обсуждаются причины сопротивления научного сообщества действиям по реформированию РАН. Формулируются рекомендации по преодолению указанного кризиса.
Академик, идеология, либерализм, наука, проблема, реформы, российская академия наук
Короткий адрес: https://sciup.org/14935067
IDR: 14935067 | УДК: 001
Текст научной статьи Проблемы реформирования российской науки
Дискуссии о месте и роли фундаментальной и прикладной науки в жизнедеятельности общества возникли не вчера и завершатся не завтра - они сопровождают развитие техногенной цивилизации со времен научной революции XVII в. Становление науки как социального института сопровождали не только академические дискуссии, но и острые кризисы. Известно, например, что в ходе Великой Французской революции было заявлено: « Республика не нуждается в ученых! », что в итоге привело к закрытию Академии наук и 22 университетов [1]. Тем не менее напряженные споры о реформировании Российской академии наук (далее - РАН), охватившие отечественные СМИ летом 2013 г., являются во многих отношениях беспрецедентными. Именно поэтому они могут служить объектом социально-философской рефлексии, направленной на осмысление следующих вопросов:
-
- Необходима ли реформа РАН и своевременна ли она?
-
- Каковы ее идеология и стратегические цели? Как их формулируют участники спора?
-
- Какие методы, средства, ресурсы реформирования предлагает новый федеральный закон?
-
- Каковы критерии эффективности «обновленной» академической науки?
-
- Чему учит история предшествующих реформ науки в разных странах?
Эти вопросы не исчерпывают, конечно, всего содержания указанных дебатов, однако они требуют прояснения. Состояние и перспективы развития науки в современной России - это сложный комплекс общественных проблем, запутанное «проблемосцепление» (О. Тоффлер), вызов отечественным теоретикам и практикам. В данной статье используются результаты, представленные в предыдущих публикациях автора [2].
Исторический контекст . Вне этого контекста многие характерные черты российской науки не могут быть адекватно понятны и правильно оценены - таково требование принципа историзма. «История научных идей, - отмечал В.И. Вернадский, - никогда не может быть окончательно написана, так как она всегда будет являться отражением современного состояния научного знания в былом человечества. Каждое поколение пишет ее вновь» [3, с. 169]. Обращаясь к истокам отечественной науки, современные исследователи обнаруживают следующие ее характерные черты :
-
- российская академическая наука возникает как звено в цепи реформ Петра I, как необходимый элемент первой успешной модернизации страны , причем модернизации ускоренной, скачкообразной;
-
- возникновение Академии наук в России является фактом уникальным и парадоксальным - она возникает по указу императора в 1724 г. практически на пустом месте, ибо в стране не было еще ни ученых, ни университетов;
-
- единство академической науки и университетского образования. В постановлении Сената, последовавшем за указом Петра I, говорилось об открытии гимназии и университета: ака-
- демикам предписывалось учить студентов в университете, а студентам – преподавать в гимназии [4, с. 220];
-
– российская наука всегда выполняла просветительскую миссию, обеспечивала связь с достижениями мировой науки, образования и культуры в целом. Об этом свидетельствует, в частности, деятельность ученых-эмигрантов, отдельные из которых стали на Западе признанными лидерами, основателями новых научных направлений и новых отраслей промышленности [5];
-
– многие выдающиеся отечественные ученые реализовывали мировоззренческую функцию науки . Среди них: М.В. Ломоносов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, В.И. Вернадский, С.И. Вавилов, В.Л. Гинзбург, В.А. Фок, А.Б. Мигдал, Н.Н. Моисеев, С.П. Курдюмов, С.П. Капица и другие;
-
– в СССР была создана Большая Наука – уникальная организационно-управленческая система, достойная сверхдержавы. Имена выдающихся организаторов науки навсегда вписаны в историю России.
Указанные черты необходимо проецировать на современные события и процессы, поскольку традиции российского научного сообщества, его «обусловленность наследственностью» задают систему отсчета в нынешних дискуссиях и управленческих решениях. Эти споры и решения демонстрируют прежде всего столкновения противоположных идеологических позиций, с анализа которых мы продолжим наше рассмотрение проблем реформирования науки.
Идеологические проблемы . «Ближайшим» основанием их возникновения выступает, по-видимому, оппозиция « сциентизм – антисциентизм ». Идейные истоки антисциентизма можно обнаружить в сочинениях Секста Эмпирика (кон. II – нач. III вв.), например, в его трактатах «Против математиков» и «Против физиков»; истоки сциентизма – в «Новой Атлантиде» (1624) Френсиса Бэкона. Сциентизм и антисциентизм как противоположные и борющиеся друг с другом философско-мировоззренческие ориентации, характерные для общественного сознания XX в., возникают, согласно И.Т. Касавину, одновременно в результате НТР [6, с. 292–293]. Для чиновников–реформаторов РАН «руководством к действию» служит (осознанно или, скорее всего, неосознанно) антисциентистский либерализм Пола Фейерабенда (1924–1994). Суть его воззрений красноречиво выражают следующие декларации: «Господство науки – угроза демократии», «Простые люди могут и должны контролировать науку», «Наука является одной из множества идеологий и ее следует отделить от государства так, как ныне отделена от него Церковь» – названия глав в книге [7]. Тезисы Фейерабенда являются ложными в познавательном отношении и вредными, губительными в практическом плане. Однако именно они определяли идеологию реформирования РАН. Российские либералы в 90-е гг. заявляли, что Академия – «это почти единственная сохранившаяся структура советского тоталитарного режима. Мы уже все реформировали: КПСС больше нет, КГБ тоже, лишь Академия <…> жива!» [8, с. 271]. Следовательно, идеологическую основу анализируемых дискуссий составляет амальгама бинарных оппозиций «государственники – либералы» и «сциентисты – антисциентисты».
Какова связь между либерализмом и антисциентизмом? Современные философские дискуссии о свободе находятся под значительным влиянием либеральной концепции И. Берлина. В ней акцентируется различие двух видов свободы: негативной (свободы – от) и позитивной (свободы – для), а последняя подвергается критике. Аргументы Берлина суть следующие.
-
1) Сторонник позитивной свободы заявляет: «Я – не раб, я сам себе хозяин».
-
2) Далее он полагает, что не надо быть рабом своей необузданной натуры – «эмпирического и раздрызганного “Я”». Поэтому понятие «Я» подвергается дихотомическому делению – различают высшее «Я» (разумное, лучшее) и низшее «Я» (неразумное, худшее).
-
3) После этого заявляют: истинное «Я» выше конкретного индивида; высшее «Я» – это социальное целое (государство, нация, церковь), частью которого является индивид.
-
4) Далее следует вывод: высшее «Я» (трансцендентальный контролер) принуждает низшее «Я» и полагает, что свобода невозможна без принуждения .
Очевидно, что данное философское рассуждение легко трансформируется в идеологическое средство, которое служит оправданием либеральной политики – внешней (с позиций исторической миссии «белого человека», «христианина» и т.д. или национальной исключительности, например, США) и внутренней (для реформирования экономики, образования, науки и т.п.). Для этого реформаторы отождествляют себя с высшим «Я» (носителем идей демократии, свободы, цивилизации), а объект реформирования – с низшим «Я», сгустком «желаний и страстей, которые необходимо подавить и обуздать» [9, с. 140].
Идеология есть неотъемлемая составляющая жизни общества и государства. Государство без идеологии – это «безмозглое» государство, утратившее функцию целеполагания и потому нежизнеспособное по определению. Современное общество весьма динамично и неустойчиво («без неустойчивости нет развития», – утверждают специалисты по синергетике), социальные процессы чреваты нарастанием хаоса, смуты и раскола. Для преодоления хаоти- зации общества необходимы, кроме всего прочего, идеологии – «политические программы для управления переменами» (И. Валлерстайн). Целерациональное политическое действие невозможно без идеологического обеспечения, без идеологической легитимации решений правящего класса. Адекватное понимание места и роли идеологии в развитии общества позволяет преодолеть обе крайние, экстремистские позиции: а) идеократию, свойственную политическому фундаментализму всех видов (националистического, религиозного, коммунистического), и б) идеофобию, идеологический вакуум, выраженный, например, в действующей Конституции РФ, ст. 13 п. 2 которой гласит: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Это проявление двойных стандартов и ханжества, поскольку в реальной политике российской власти более двух десятилетий доминирует либеральная идеология, «приправленная» элементами прагматизма, советской символики, квазипатриоти-ческой риторики, мифологии и т.п.
«Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями», – утверждали в 1846 г. К. Маркс и Ф. Энгельс. Что изменилось в идеологической сфере за прошедшие полтора века? Была попытка создания «научной идеологии», которая не выдержала испытания историческим опытом: идеология и наука различны по своей сущности и общественному предназначению, о чем писал А.А. Зиновьев [10]. В 1960 г. была выдвинута концепция деидеологизации (Р. Арон, Д. Белл, К. Поппер и другие), провозгласившая наступление «конца идеологии» вследствие затухания социальных конфликтов, которая давно и полностью себя дискредитировала. Навязываемая властью деидеологизация в действительности приводит к возрождению социальных и политических мифов в сознании людей.
Тезис о необходимости реформирования РАН – это новейший политический миф, наспех сочиненный, как говорят, «узким кругом ограниченных людей», имеющих властные амбиции и корыстные интересы. Происхождение этого мифа понятно: «Во дворце мыслят иначе, чем в хижине <…> », – отмечал Л. Фейербах. В правительственных кабинетах о науке и путях ее развития мыслят иначе, чем в академических институтах. По-прежнему общественное бытие определяет общественное сознание; однако при этом сознание малой когорты чиновников заметно ухудшает бытие большинства граждан России. Идеологическое противостояние академического сообщества и власти обозначилось с самого начала либеральных реформ – об этом свидетельствуют, в частности, итоги выборов в Государственную Думу (1993). Год спустя Ж.И. Алферов утверждал, что «наука к рыночной экономике не имеет никакого отношения» [11]. Естественно, что «эффективные менеджеры» и их кукловоды не оставили этого без внимания (сработала система «свой – чужой»). По мере расширения реформ идеологическое противостояние нарастало, а летом 2013 г. оно перешло в острую фазу политической борьбы.
Социально-экономические проблемы . История показывает, что доминирующая государственная идеология («мысли господствующего класса») во многом определяет экономическую политику государства. Максимально идеологизированными экономическими теориями являются, по мнению экспертов, две парадигмы – политэкономия социализма (изобретенная в СССР) и неоклассическая теория, mainstream современной экономической мысли. Признавая определенные черты сходства между ними, которые выявляет академик С.Ю. Глазьев [12], подчеркнем противоположность социальных последствий их реализации для развития науки в России. Официальная статистика показывает, что при Советской власти наука, в целом, успешно (с известными уточнениями) развивалась, при нынешней – разрушается. Оценивая российские процессы 1991–1999 гг., исследователи из ВШЭ констатируют, что распад СССР стал одним из знаковых событий современной мировой истории, повлекшим за собой целый спектр глобальных экономических, политических, социальных, гуманитарных и иных последствий и эффектов. После распада СССР ситуация в науке стала меняться по самому катастрофическому сценарию . В частности, внутренние затраты на НИОКР в постоянных ценах за пять лет с 1991 г. сократились в 3 раза. «Их доля в ВВП сначала резко упала до 0,7–0,8 %, а затем в течение нескольких лет не превышала однопроцентный уровень, характерный для стран, практически не развивающих (или не имеющих) собственную науку» [13, с. 9]. Весьма показательно, что к этому выводу пришли сотрудники Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Статистика прекращает идеологические споры?
В качестве основных социально-экономических последствий либеральных реформ в России эксперты выделяют следующие:
-
1. Резкое сокращение объема промышленного производства – он уменьшился на 50 % за первые пять лет, а ВВП – на 37 % [14].
-
2. Разрушение наукоемких отраслей промышленности. Например, в 2007 г. в России было построено всего 5 гражданских самолетов, то есть в 100 раз меньше, чем в лучшие годы в
-
3. Обвальное сокращение финансирования научных организаций из государственного бюджета. Например, бюджет Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе в 1997 г. по сравнению с 1990 г. упал в 30 раз. Следовательно, отделение науки от государства, «завещанное» Фейерабендом, на практике реализовали правительства 90-х гг.
-
4. Демонтаж инновационной системы страны. В ходе приватизации отраслевых НИИ, КБ и НПО многие из них утратили свои опытные производства. Академик В.Е. Захаров говорит о ликвидации 3 тыс. прикладных институтов (а претензии в неэффективности чиновники предъявляют РАН) [16]. Таким образом, ликвидированы те элементы научно-технологической системы, которые должны обеспечивать процесс инноваций на стыке « исследования-производство »;
-
5. Цена реформ. Итоги либеральных реформ в России тщательно анализируют ведущие отечественные и зарубежные ученые. Первые результаты анализа представлены в книге [17], в которой экономисты РАН совместно со всемирно известными американскими лауреатами Нобелевской премии дали общую негативную оценку проводимой социально-экономической политике. Исследования и дискуссии продолжаются и в наши дни [18]. Их основные выводы можно резюмировать следующим образом.
СССР [15, с. 56]. Необратимому разрушению, по оценке Глазьева, подверглись наукоемкое машиностроение, приборостроение, фармацевтическая и биотехнологическая промышленность.
«Реформы можно считать успешными, если увеличивается производительность труда, мощь государства и благосостояние народа», – справедливо утверждал Дэн Сяопин. Что говорят данные официальной статистики?
-
– Производительность труда в нефтедобывающей промышленности упала в 3,5–4 раза, в электроэнергетике – в 2 раза.
– За период с 1990 по 2010 г. остался на том же уровне ВВП, объем промышленного производства сократился на 25 %, а сельскохозяйственной продукции – на 40 % [19].
Государство от приватизации получило 9 млрд. долл. (а Боливия – 90 млрд. долл.), потери от приватизации, по оценке академика Н.П. Шмелева, составили 1,4 трлн. долл. Авторы одного из учебников пишут, что «прямые потери национального богатства России за 1991–1997 гг. составили 1,75 трлн дол. Это в 4 раза больше потерь, понесенных в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [20]. Эти факты подтверждают вывод А.А. Зиновьева о том, что в действительности имел место «грабительский захват богатств страны, разгромленной в войне нового типа» [21].
– В результате реформ «современная Россия утратила государственный суверенитет» (М. Делягин).
– За 1992–2006 гг. естественная убыль населения РФ составила 11,488 млн чел. Главные причины вымирания населения, по данным Минздрава и РАМН, прямо связаны с реформой – это хронически высокий уровень стресса, снижение качества жизни, неудовлетворительное состояние социальной сферы и базовой медицины, криминализация общества и т.д. [22].
Таким образом, итоги либеральных реформ не соответствуют ни одному из критериев успешности по Дэн Сяопину. Многие эксперты делают вывод о том, что Россия пребывает в состоянии экономического, социального и духовного распада. Именно в этом контексте следует искать причины «скоропостижной реформы» РАН . В цитированном выше интервью В.Е. Захаров называет следующие причины: а) Свалить с больной головы на здоровую – с власти на Академию; б) уйти от ответственности за срыв инновационных программ; в) уйти от ответственности за растрату бюджетных средств в «Роснано», «Сколково» и т.п. О какой ответственности идет речь – о моральной, политической, административной или уголовной?
По сообщениям СМИ, Генеральная прокуратура РФ считает, что в фонде «Сколково» (в народе называемом «Осколково» или «Распилково») за 2010–2012 гг. бесконтрольно истрачено около 50 млрд руб. и могут украсть еще 125 млрд руб. [23]. Многие российские и иностранные ученые уверены, что проект «Сколково» был создан в ущерб российской науке, ибо на него затрачена сумма, превышающая годовой бюджет РАН. Понятно, что Генпрокуратура не занимается вопросами о моральной и политической ответственности, однако многое остается неясным…
Учитывая приведенные факты и оценки, можно сделать выводы о начатой реформе РАН. Во-первых, она несвоевременна и неуместна. Принятие Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ [24] и создание Федерального агентства научных организаций (далее – ФАНО) не решают главной проблемы российской науки – невостребованности ее результатов обществом в целом: экономикой, социальной сферой, культурой и т.д. Н.П. Шмелев приводит яркий пример. В мире средняя годовая норма прибыли 9 %. «Успешный предприниматель» Е.Н. Батурина работала с 500–700 % годовой прибыли – этому кругу людей не нужны никакие инновации, никакая наука, их порождающая. Дальнейший анализ указанной проблемы невозможен без выхода в более широкий, социокультурный контекст.
Социокультурные проблемы . Без их решения (или хотя бы существенного снижения конфликтного потенциала этих проблем) никакие административные реформы не изменят состояние российской науки. Необходимо, во-вторых, самой власти изменить отношение к науке. В свое время Ленин останавливал слишком ретивых переустроителей, чтобы те «не озорничали вокруг академии». Сейчас их остановить некому. В первоначальной редакции Федерального закона от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике» № 127-ФЗ содержалась норма финансирования науки - 4 % расходной части бюджета. Эксперты утверждают, что эта норма ни разу не была выполнена. Статья 15 этого закона похожа на решето -власти проще менять текст, чем следовать духу закона.
Возникает вопрос: «Существует ли в России государственная научно-техническая политика?» Известно, например, что в США уже 10 лет реализуется программа развития ториевой энергетики (подземные АЭС на ториевых реакторах). Автор аналогичного отечественного проекта Л. Максимов говорит, что его предложения в очередной раз не были услышаны ни чиновниками Росатома, ни Президентом: «Президенту я с 2001 по 2007 г. отправил 7 обращений, в которых объяснял всю опасность продолжения эксплуатации и дальнейшего строительства наземных АЭС и рациональность альтернативного использования ториевых реакторов» [25, с. 3]. А в ответ - тишина. Другой пример невостребованности результатов научного поиска - институциональная (эволюционная) экономика.
Весьма показательно, что и в России, и на Западе растет интерес к социокультурным аспектам функционирования и развития экономики - к метаэкономике . Академик О.Т. Богомолов справедливо утверждает, что экономика неотделима от государственной политики, состояния общественного сознания и воздействия на него СМИ, наличия общественного порядка, уровня культуры и нравственности. Вопреки ожиданиям анонимных авторов ФЗ № 253, начать следовало с политической оценки результатов либеральных реформ (они проанализированы в указанных работах О.Т. Богомолова, С.Ю. Глазьева, С.Г. Кара-Мурзы и других) и с продуманных действий по реиндустриализации страны (а далее - по возрождению села и отечественной культуры). Технологическая модернизация предприятий наукоемких отраслей промышленности возродила бы заводской сектор науки, а впоследствии - прикладные институты отраслевого сектора отечественной науки, которые неизбежно востребовали бы результаты фундаментальных исследований. Таким представляется путь возрождения национальной научноинновационной системы, путь к обществу знаний.
В современном российском обществе почти отсутствует, к сожалению, отношение к науке как одному из главных приоритетов национального развития. Падение авторитета науки - одно из следствий либеральных реформ, основанных на идеологии рыночного фундаментализма. Действительно, «коммерциализация науки и образования обесценивает накопление фундаментальных знаний, поощряет спрос на скороспелые результаты и предложения» [26]. К числу таковых относится, несомненно, и история с продавливанием 253-го ФЗ. Его содержание в части идеологии и стратегии развития РАН не содержит ничего нового в сравнении с 127-м ФЗ (кроме нигде не определенного термина «поисковые исследования». Что это такое? Действия по принципу «поискали - не нашли - бросили»?). В соответствии с принципами рыночного фундаментализма вся новизна сводится к отношениям собственности : в законе 1996 г. (ст. 6) РАН наделялась правом управления своей деятельностью и правом владения, пользования и распоряжения переданным ей имуществом, находящимся в федеральной собственности; в законе 2013 г. права собственника передаются ФАНО (ст. 18, п. 9). По-видимому, ради этого и была затеяна «реформа»: имуществом трех академий станет распоряжаться очередной «эффективный менеджер».
Академическое сообщество активно и организованно выступило против замысла реформаторов. Вице-президент РАН Г.А. Месяц в одном из интервью расшифровал намерения чиновников в отношении Академии откровенно и недвусмысленно: «… Отобрать землю, имущество и задушить налогами. Я не вижу другой цели и других идей» (цит. по: [27, с. 458]). Лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов предупреждал о реальной опасности превращения «Ака-демсервиса» (названного ФАНО) в печально известный «Оборонсервис». Многочисленные документы, связанные с противостоянием между учеными и властью, составили сборник [28]. Опасения ученых нашли свое подтверждение: правительство вначале подготовило документы на приватизацию имущества трех академий, а потом возможность приватизации была законодательно оформлена (из сообщений СМИ).
Таким образом, весьма вероятной представляется следующая социокультурная модель, объясняющая указанное беспрецедентное противостояние. Первопричина решения о реформировании РАН - стремление высокопоставленных чиновников компенсировать негативные последствия неэффективной социально-экономической политики (рецессия, близкая к стагнации, дефицит госбюджета). Основой этой политики служит «наукообразная религия рыночного фундаментализма» (С.Ю. Глазьев). Идеологический камуфляж – миф о необходимости реформирования Академии; правовое обеспечение – 253-й ФЗ, продавленный с помощью послушного парламента. Этот закон: а) готовился втайне – глава Минобрнауки отказался назвать авторов законопроекта и в то же время дистанцировался от них; б) готовился поспешно – к концу весенней сессии Госдумы; в) не прошел экспертного обсуждения; г) был принят вопреки сопротивлению академического сообщества; д) не определяет стратегическую цель реформирования, а также средства, методы и ресурсы данного переустройства.
Учитывая опыт предыдущих преобразований, можно предположить, что данная реформа завершится провалом, приведет к длительной дезорганизации деятельности РАН, РАМН и РАСХН, породит спектр негативных социокультурных проблем – возрастут масштаб и темпы «утечки умов» (интеллектуальной эмиграции), произойдет разграбление собственности трех академий и появление коррупции и криминализации в процессе «освоения» этой собственности, увеличится технологическое отставание и неконкурентоспособность отечественной промышленности, снизятся социальный статус и престиж научных работников, возрастет деградация интеллектуальной и духовной культуры общества. Что будет после реформы РАН? Не могу не согласиться с прогнозом историка Н.П. Рябченко: «Но ведь потом все неизбежно придется восстанавливать, с потерями, большими затратами, ценой еще большего отставания от других народов» [29, с. 102].
В свое время Н.П. Бердяев писал: «Перед Россией стоит роковая дилемма. Приходится делать выбор между величием, великой миссией, великими делами и совершенным ничтожеством, историческим отступничеством, небытием. Среднего, «скромного» пути для России нет» [30]. Величие России без подлинного возрождения наукоемкой промышленности, фундаментальной и прикладной науки и национальной системы образования невозможно.
Ссылки:
-
1. Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки / ред.-сост. Э.И. Колчинский. СПб., 2003.
-
2. Прытков В.П. Общество знаний и проблема развития науки // Теория и практика общественного развития. 2012. № 11. С. 39–45.
-
3. Вернадский В.И. О науке. Т. 1. Дубна, 1997.
-
4. Алферов Ж.И. Академия наук в Петербурге-Ленинграде за 275 лет // Наука и общество. СПб., 2005.
-
5. Российская научная эмиграция: Двадцать портретов / под ред. акад. Г.М. Бонгарда-Левина и В.Е. Захарова. М., 2001.
-
6. Касавин И.Т. Сциентизм и антисциентизм // Современная западная философия: словарь. М., 1991.
-
7. Фейерабенд П. Наука в свободном обществе. М., 2010.
-
8. Алферов Ж.И. Наука и общество. СПб., 2005.
-
9. Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001.
-
10. Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006.
-
11. Алферов Ж.И. Наука … С. 264.
-
12. Глазьев С.Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на «экономическое чудо». М., 2011.
-
13. Отечественная наука и научная политика в конце XX в.: тенденции и особенности развития (1985–1999) / под общ. ред. Л.М. Гохберга. М., 2011.
-
14. Там же. С. 71.
-
15. Иноземцев В.Л., Кричевский Н.А. Экономика здравого смысла. М., 2009.
-
16. Шаракшанэ С. Покушение на убийство РАН (интервью с акад. В.Е. Захаровым) // Аргументы недели. 2013. № 25. 4–10 июля. С. 8–9.
-
17. Реформы глазами американских и российских ученых / под общ. ред. О.Т. Богомолова. М., 1996.
-
18. Богомолов О.Т. Проблемы использования неэкономического потенциала модернизации // Вестник РАН. 2013. № 8.
-
С. 675–680; Институциональная экономика отвергает рыночный фундаментализм // Вестник РАН. 2013. № 8. С. 681–684. 19. Там же. С. 676.
-
20. Формирование и развитие управления в Российском государстве. М., 2001.
-
21. Зиновьев А.А. Указ. соч. С. 437.
-
22. Глазьев С.Ю. Геноцид. М., 1998.
-
23. См.: Известия 1 ноября 2013 г.; Аргументы недели № 43, 7–13 ноября 2013 г.
-
24. Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
-
25. Меркурьева Е. Будущее за ториевой энергетикой // Аргументы недели. № 16. 19–25 апреля 2013 г.
-
26. Богомолов О.Т. Указ. соч. С. 680.
-
27. Лукьянин В.П. Вершины уральской науки. Екатеринбург, 2013.
-
28. Российская академия наук. Хроника протеста / сост. А. Паршин. М., 2013.
-
29. Рябченко Н.П. Наука под игом реформаторов. Владивосток, 2010.
-
30. Бердяев Н. Мутные лики. М., 2004.