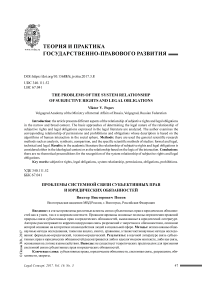Проблемы системной связи субъективных прав и юридических обязанностей
Автор: Попов Виктор Викторович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Теория и практика государственно-правового развития
Статья в выпуске: 3 (36), 2017 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье приведены различные аспекты связи субъективных прав и юридических обязанностей как в узком, так и в широком контексте. Проанализированы основные подходы определения правовой природы связи субъективных прав и юридических обязанностей, высказанные в юридической литературе. Автором рассматривается корреспондирующая связь разрешений с запретами и обязанностями, описание которой основано на алгоритмах взаимодействия людей в социальной сфере. Методы: использованы общенаучные методы исследования, такие как анализ, синтез, сравнение, а также частнонаучные методы исследования: формально-юридический, технико-юридический. Результаты: в научной литературе связь субъективных прав и юридических обязанностей рассматривается либо в идеологическом контексте, либо как связь, основанная на логике взаимодействия. Выводы: не существует теоретических предпосылок для признания системной связи субъективных прав и юридических обязанностей.
Субъективные права, юридические обязанности, системная связь, разрешения, обязанности, запреты
Короткий адрес: https://sciup.org/14973450
IDR: 14973450 | УДК: 340.111.52 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2017.3.8
Текст научной статьи Проблемы системной связи субъективных прав и юридических обязанностей
DOI:
Вопрос о связи субъективных прав и юридических обязанностей можно рассматривать в нескольких аспектах. Например, в аспекте узкой системной связи. Как установлено автором ранее [8], узкий системный контекст не позволяет говорить о реальной взаимной определимости разрешений, обязанностей и запретов, поскольку теряются нормативные свойства разрешений. Вместе с тем подобный узкий системный контекст – это не единственно возможный аспект рассмотрения взаимосвязи субъективных прав и юридических обязанностей.
Многообразие подходов к характеристике связей субъективных прав и юридических обязанностей: идеологическая связь
Иному аспекту рассмотрения связи субъективных прав и юридических обязанностей значительное внимание уделяет С.С. Алексеев, характеризуя правовой режим общего запрета и общего дозволения посредством установления исключений из соответствующих нормативных противоположностей (исключения из запретов, исключения из разрешений) [2, с. 93]. Он не говорит о системных связях прав и обязанностей, поскольку никаких исключений из запретов или разрешений в структурно-функциональном контексте не требуется, а аналитически такие исключения не детерминируются. Речь идет, скорее, об обосновании содержания правовых предписаний логикой целеполагания, об их обусловленности внутренней и внешней политикой государства, то есть об определении того, что именно следует дозволять или запрещать, о том, где уместны исключения, а где нет. По сути дела это вопрос идеологической концепции выбора пределов правового регулирования.
Л.Д. Воеводиным высказывается мысль о существовании еще одного варианта связи субъективных прав и юридических обязанностей. В частности, автор утверждает, что нераздельность свободы и ответственности обусловливает единство прав и обязанностей
[4, с. 43]. Если говорить о свободе и понимать ее как некую возможность, то она при отходе от традиционного понимания ее связи с правом будет являться не более чем условием рациональности построения нормативно-правовой системы (невозможное не может вменяться в обязанность).
Таким образом, ученый также понимает связь свободы и ответственности именно в идеологическом контексте, нежели в каком-либо ином. Идеологическое понимание подобной связи включает в себя, например, некий призыв к субъектам права, готовым к определенной сознательно-волевой и социально значимой деятельности («к свободе»), быть готовым также к тому, что такая деятельность может быть оценена не только как правомерная, но и как противоправная, то есть предполагать юридическую ответственность. Но связь между подобной деятельностью, ее юридической оценкой и ответственностью задается искусственно, с помощью нормы права, то есть эта связь субъективна, она задается волей субъекта, издающего норму права. И не случайно на этот важный методологический вопрос (признаки подобной искусственной связи, особенно в контексте сравнения с естественной, природной связью) совершенно правильно обращал внимание Г. Кель-зен [9, p. 46–47].
Многообразие подходов к характеристике связей субъективных прав и юридических обязанностей: связь, основанная на логике социального взаимодействия
Следующим очень важным аспектом связи прав и обязанностей считается корреспондирующая связь, описание которой основано на алгоритмах взаимодействия людей в социальной сфере. Речь идет о корреспондирующей (взаимной) связи разрешений с запретами и обязанностями.
За данной связью признают не только глубокие исторические корни [2, с. 25], но и особую значимость. В частности, Г.Д. Гурвич пишет, что «право есть позитивный порядок, представляющий собой попытку реализации справедливости... в определенной социальной среде посредством системы… правил, которые устанавливают строго определенную взаимозависимость между коррелирующими обязанностями и притязаниями…» [5, с. 139–140].
Н.Н. Алексеев в своих философско-правовых идеях рассматривал в качестве основного критерия отграничения права от неправовых явлений именно наличие или отсутствие взаимных прав и обязанностей [1].
Связь прав и обязанностей признают не только юристы, но и философы. В частности, еще И. Бентам писал: «для каждого права, которым закон наделяет одну сторону, будь то индивид, группа индивидов, публика в целом, существует долг или обязательство, которую он налагает на другую сторону» [3, с. 279].
Отрицание связи субъективных прав и юридических обязанностей: существуют лишь права
Вместе с тем такая связь прав и обязанностей также издавна ставится различными учеными под сомнение, когда в рассматриваемой связке («права – обязанности») более или менее явно отрицаются как субъективные права, так и юридические обязанности.
Одна из крайних позиций представлена особенностями западноевропейской мысли Нового и Новейшего времени, пронизанной либеральной идеологией свободы, свободной воли, индивидуализма. Выражением этого можно считать, например, идеи Алоиза фон Бринца, заменяющего понятие правоотношения понятием субъективного права-притязания (цит. по: [7, с. 204]).
Отрицание связи субъективных прав и юридических обязанностей: существуют лишь обязанности
Противоположная позиция имеет даже более давние корни. В частности, Цицерон признавал, что существуют только повелительные и запретительные законы (цит. по: [7, с. 180]).
По мнению Дюги, «старое», «метафизическое представление о субъективном праве» должно быть устранено из юридической науки, поскольку оно теснейшим образом связано с индивидуалистическим учением о пра- ве (цит. по: [6, с. 78–95]). Вместе с тем видно, что Дюги в большей степени апеллирует к политико-прагматическому, но не к структурно-функциональному аспекту при обосновании отрицания субъективных прав.
Более точным представляется направление мысли Г. Кельзена, отмечавшего, что субъективное право есть не самостоятельное предписание, но лишь отраженная юридическая обязанность, причем если ее убрать, то в режиме правового регулирования ничего не изменится [10, p. 14]. Развивая данную мысль, рассмотрим связь прав и обязанностей более подробно. В наиболее общем виде данная (корреспондирующая) связь могла бы просматриваться по двум направлениям.
Первое направление (схема 1) выглядит как некая минимально необходимая связь. Дозволение «разрешено А» корреспондирует запрету «запрещено препятствовать А» («обязательно воздержаться от препятствования А»). Если рассматривать подобную связь через призму не норм права, но правоотношений, то легко заметить, что она в значительной мере отражает (юридическое) содержание так называемых абсолютных правоотношений. При этом, если говорить о препятствовании некоему (дозволенному) поведению, то это препятствование может и не быть элементом поведенческой модели в отношении, то есть вполне может и не соответствовать данному поведению как «обязательный спутник». Например, получение денег за товар не обязательно сопровождается препятствованием в получении этих денег. Из этого следует, что здесь, по сути дела, речь идет не о корреспондирующей связи, но об отраженной обязанности (запрете), то есть правовым предписанием является лишь обязанность (запрет), а так называемое дозволение есть лишь специфический способ указания на данное предписание.
Другое возможное направление связи (схема 2) имеет совершенно иной характер, а именно (субъективному праву) «разрешено А» корреспондирует обязанность «обязан сделать поведение, соответствующее А». В данном случае это указание на обязательное (запрещенное) поведение исходит из социальноконкретного содержательного анализа дозволенного поведения в рамках механизма социального взаимодействия.
В отличие от воздержания препятствовать дозволенному поведению (схема 1) , во второй схеме («обязан вести себя образом, соответствующим поведению А») корреспондирующее поведение должно непременно сопутствовать дозволенному, представляя собой один из неотъемлемых элементов содержания бинарных отношений. Без этого элемента разрешенное поведение нереализуемо. Например, получение денег за товар нереализуемо без их уплаты (реализации обязанности уплатить).
Истоки такого взаимного корреспондирующего поведения достаточно хорошо объяснимы общеизвестными и повсеместно признаваемыми историческими фактами. Но в любом ли случае в поиске сочетания субъективных прав и (позитивных) юридических обязанностей мы видим наличие подобной связи между двумя предписаниями, связи, отражающей взаимность поведения двух субъектов? Думается, что ответ не совсем прост.
В одних случаях мы видим четкие взаимные действия. Например, праву обратиться с критикой органов власти (ст. 2, 5 и др. Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» от 21 апреля 2006 г. № 59-ФЗ) корреспондирует обязанность данных органов принять такое обращение, рассмотреть его и дать ответ в рамках установленной процедуры (ст. 9–12 и др. того же закона). В других случаях такой четкости нет. Например, подобный случай просматривается в рамках обязанности родителей обеспечивать интересы детей (ст. 65 Семейного кодекса РФ), обязанности совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях (ч. 1 ст. 87 Семейного кодекса РФ). С какой связью прав и обязанностей мы сталкиваемся? Исходя из общей схемы взаимного соответствия обязанности заботиться соответствует право на заботу (ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ). Но какое поведение дозволяется в рамках права на заботу? Мысль о том, что речь идет о дозволении принять (претерпеть?) заботу, представляется неудачной в контексте правового регулирования.
Можно допустить, что такая конструкция, как «притязание» (корреспондирующее соответствующей юридической обязанности), позволяет обойти подобную сложность. Но допущение наличия притязания, например, как правомочия в структуре субъективного права порождает как минимум два вопроса:
Во-первых, насколько подобное притязание следует относить именно к разрешениям, насколько такая связь реальна? Не искусственна ли связь притязаний с разрешением, то есть не происходит ли в подобном случае подмена дозволения притязанием? Думается, что подобная подмена происходит, хотя она и не помогает установить структурно-функциональный характер связи прав и обязанностей.
Во-вторых, какова потребность в такой конструкции, как «притязание», именно в контексте широкой системы связи нормативных операторов? Например, если мы несколько изменим содержание рассматриваемой формы и возьмем обязанность, например, служить в армии, то возникает вопрос: о каком корреспондирующем притязании мы будем вести речь? О притязании государства на получение службы в армии? Но признание наличия либо отсутствия такого притязания никак не влияет на обязанность служить в армии. Поэтому автор полагает, что в теоретическом плане алгоритмы взаимного поведения и логика правового регулирования данного поведения не требуют наличия ни подобных притязаний, ни разрешений.
Выводы
Таким образом, можно сделать вывод о наличии теоретических предпосылок для отрицания не только узкого, но и широкого системного контекста связи субъективных прав и юридических обязанностей.
Список литературы Проблемы системной связи субъективных прав и юридических обязанностей
- Алексеев, Н. Н. Основы философии права/Н. Н. Алексеев. -СПб.: Лань, 1999. -256 с.
- Алексеев, С. С. Общие дозволения и запреты в советском праве/С. С. Алексеев. -М.: Юридическая литература, 1989. -288 с.
- Бентам, И. Введение в основания нравственности и законодательства/И. Бентам. -М.: РОССПЭН, 1998. -415 с.
- Воеводин, Л. Д. Юридический статус личности в России/Л. Д. Воеводин. -М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М -НОРМА, 1997. -304 с.
- Гурвич, Г. Д. Философия и социология права: избр. соч./Г. Д. Гурвич. -СПб.: Изд-во юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. -848 с.
- Дурденевский, В. Н. Субъективное право и его основное разделение/В. Н. Дурденевский//Правоведение. -1994. -№ 3. -С. 78-95.
- Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права/Н. М. Коркунов. -М.: РОССПЭН, 2010. -520 с.
- Попов, В. В. Права человека как субъективные права: проблемы нормативной интерпретации/В. В. Попов//Вестник Волгоградской академии МВД России. -2014. -№ 4. -С. 9-15.
- Kelsen, H. General theory of state and law/H. Kelsen. -Cambridge: Harvard University Press, 1949. -516 p.
- Kelsen H. Pure theory of law/H. Kelsen. -Berkeley: University of California Press, 1967. -356 p.