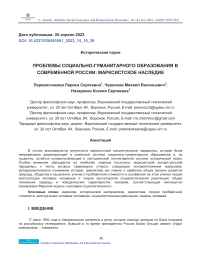Проблемы социально-гуманитарного образования в современной России: марксистское наследие
Автор: Перевозчикова Лариса Сергеевна, Черников Михаил Васильевич, Назаренко Ксения Сергеевна
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 14 (16), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются результаты марксистской концептуальной парадигмы, которая была непререкаемо доминирующей в советской системе социально-гуманитарного образования и, по существу, остаётся основополагающей в постсоветской отечественной системе исторической науки. Особое внимание обращается на наиболее спорные постулаты марксистской концептуальной парадигмы, к числу которых правомерно отнести следующие основоположения марксизма: материалистическое понимание истории; диалектика как учение о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления; учение о прибавочной стоимости и основанная на этом учении теория эксплуатации человека человеком и теория пролетарской социалистической революции; общее понимание природы и поведенческих характеристик человека, соответствующая имплицитно понимаемая Марксом модель "человека социологического".
Марксизм, исторический материализм, диалектика, теория прибавочной стоимости, эксплуатация человека человеком, социалистическая революция, модель человека
Короткий адрес: https://sciup.org/14122789
IDR: 14122789 | DOI: 10.52270/26585561_2022_14_16_36
Текст научной статьи Проблемы социально-гуманитарного образования в современной России: марксистское наследие
17 июня 1992 года в Американском конгрессе в речи, которая никогда целиком не была показана по российскому телевидению, бывший в то время президентом России Борис Ельцин заявил «Идол коммунизма… повержен».
Дословно это звучало так: «Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на Земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул! Рухнул навсегда! И я здесь для того, чтобы заверить Вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть».
И хотя сегодня в общественном мнении России отношение и к этой речи и непосредственно к персоне Бориса Ельцина отрицательное, нужно, признать, что в 1992 году Россия действительно заявила о своём полном разрыве с идеологией коммунизма, что должно было, в свою очередь, означать и разрыв с основой коммунистической идеологии, а именно с марксизмом.
Но что такое марксизм? В этом вопросе отечественное обществознание всегда руководствовалось определением В.И. Ленина, который ещё в 1913 году писал: «Марксизм – система взглядов и учения Маркса, …дающих в совокупности современный материализм и современный научный социализм, как теорию и программу рабочего движения.» [Ленин 1973: 50-51].
Именно эта «система взглядов и учения» стала официальной государственной доктриной в СССР – «первом в мире социалистическом государстве», которым Россия стала именоваться спустя семь лет после победоносной революции большевиков во главе с Лениным в 1917 году.
Марксистская «система взглядов и учения» составили непререкаемую концептуальную парадигму для всего корпуса социально-гуманитарного знания в СССР и легли в основание всей системы социально-гуманитарного образования в Советском Союзе.
Марксизм, выражаясь современным языком выступал в роли базовой операционной системы для всех программ и дисциплин социально-гуманитарного профиля в Советском Союзе. Отечественные обществоведы (хотели они того или не хотели) вынуждены были пользоваться как в своих исследованиях, так и в своей преподавательской деятельности только этой – марксистской – базовой операционной системой.
И хотя в позднем Советском Союзе всё отчетливее наступало понимание, как минимум, устарелости базовой операционной системы марксизма, последняя была настолько защищена на государственно-политическом уровне, на уровне государственной идеологии СССР, что отказаться от неё, перейти к использованию другой, более прогрессивной базовой операционной системе, не представлялось возможным.
И только крах Советского Союза (по праву названный президентом РФ В.В. Путиным «величайшей геополитической катастрофой») сделал политически возможным отказ от марксизма, сделал возможным «удаление» (деинсталляцию) как из исследовательского, так и из образовательного полей социальногуманитарного знания марксистской системы. Но такого рода «удаление» должно быть проводимо «корректно» и уж никак не тем пафосным способом, который пытался применить Борис Ельцин. Корректное «удаление» базовой операционной системы марксизма их сферы социально-гуманитарного знания нельзя осуществить простым отказом от неё, нельзя осуществить «одним чохом». Правильнее произвести предварительную аналитическую работу и выявить те базовые идеи марксизма, которые являются концептуально наиболее слабыми, наиболее критикуемыми с позиций современного уровня развития социально-гуманитарных наук. И уже после такого выявления произвести поэтапную «деконструкцию» марксизма, наметив конкретные направления, в которых марксистская концептуальная парадигма должна быть существенно изменена.
Надо сказать, что соответствующая аналитическая работа у нас достаточно плодотворно ведётся (см. в частности: [Фурсов 1998, Мартыненко 2005, Черников 2021а, Черников 2021б, Черников 2021в, Черников и др. 2021, Черников 2022]). В настоящей статье мы (по необходимости, кратко) постараемся произвести определенный релиз такой аналитической работы, артикулировав наиболее слабые в научном плане «места» марксизма, которые и должны быть в первоочередном порядке пересмотрены как в рамках отечественного корпуса социально-гуманитарного знания, так и в рамках всей системы социально-гуманитарного образования.
II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Начнём с наиболее общих – мировоззренческих – постулатов марксизма, которые с высоты сегодняшнего дня представляются, как минимум, устаревшими. Речь идет о таких основоположениях марксизма как материалистическое понимание истории и диалектика, играющая у Маркса роль общей теории развития природы, общества и мышления.
Классическое выражение марксистского принципа материализма в понимании исторического развития общества дано в (бесконечно часто цитируемом) пассаже «К критике политической экономии»: «В общественном производстве своей жизни, люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще» [Маркс, Энгельс, 1959: 6-7].
Так Маркс генерализирует объективный фактор в развитии общества и общественных отношений. Главным детерминантом исторических изменений объявляются законы развития общественного бытия, которые существуют независимо от воли и сознания людей, вынужденных подчиняться в своей текущей жизни, сообразовываться с действием такого рода объективных законов.
Нельзя, конечно, отрицать наличие рационального зерна в том историко-материалистическом подходе, который постулируется Марксом. Но с высоты сегодняшнего дня вполне очевиден «перекос» Маркса в сторону объективизма, недооценка им субъектного (не путать с субъективным) фактора общественного развития. А субъектный фактор, то есть «целенаправленная деятельность субъекта по достижению своих целей, реализации планов и интересов на основе учета, контроля и управления социально-историческим процессом, а с определенного времени – на основе проектирования и конструирования этого процесса» [Фурсов 2014: 8], начиная, с XVIII века (и чем далее, тем в большей степени) становится всё более определяющим в плане детерминации общественного развития. Не учитывать этого сегодня просто нельзя. «Перекос» Маркса в сторону объективизма должен быть устранен. В этом плане мы вполне солидаризируемся со словами А.И. Фурсова, который пишет:
«Новоевропейская наука об обществе была системоцентричной. Попытка Маркса разработать теорию исторического субъекта и превратить ее в науку успехом не увенчалась. Впоследствии эта линия теории Маркса продолжения не нашла – субъектное было сведено к субъективному, приобретая характеристики чего-то второстепенного. В результате из поля зрения исчезли очень важные агенты исторического изменения, а сами эти изменения стали изображаться как филиация одной системы из другой, одного комплекса «объективных факторов» из другого. В результате из истории исчез субъект как ее творец. Одна из главных задач нынешнего этапа развития знания об обществе – не просто вернуть субъекта, но разработать субъектоцентричную науку и синтезировав ее с системоцентричной создать полноценную, многомерную субъектно-системную науку.» [Фурсов 2014: 8]
Ещё большие нарекания вызывает трактовка Марксом метода или логики исторического развития. Таким методом Маркс объявляет заимствованную им у Гегеля диалектику, которой (якобы) руководствуются в своём развитии и природа, и общество, и человеческое мышление. Сегодня можно уже вполне определенно заявить, что диалектика (учение, основу которого составляют три т.н. закона диалектики:
-
1) Закон единства и борьбы противоположностей (диалектическое противоречие),
концептуализирующий «источник развития» любого объекта.
-
2) Закон перехода количественных изменений в качественные (скачок), концептуализирующий «механизм развития» любого объекта.
-
3) Закон «отрицания отрицания», концептуализирующий «направление развития» любого объекта) не удовлетворяет критериям, которым должна удовлетворять теория, чтобы считаться научной, что, собственно говоря, и не позволяет рассматривать диалектику как научно корректную теорию развития в области объективной действительности.
Главное – на основе диалектики нельзя получить (что требуется современными стандартами научности) достаточно определенный и подлежащей верификации (или хотя бы принципиальной фальсификации [Поппер 2005]) прогноз промежуточных и результирующих итогов протекания процессов развития в объективной действительности. Именно поэтому в конкретных науках, изучающих процессы развития в объективной действительности, нигде не используется концептуальный аппарат диалектики.
К числу такого рода наук, в частности, относятся: синергетика (изучающая процессы самоорганизации в неживой и живой природе), биология (изучающая такие процессы развития в живой природе как онтогенез и филогенез), физика (изучающая процессы эволюции Вселенной и во Вселенной). Но ни синергетика, ни биология, ни физика «не знают» диалектики, не применяют концептуальный аппарат диалектики в рамках описания и объяснения изучаемых закономерностей.
В настоящей статье мы не имеем возможности обсудить весь – длительный и богатый на перипетии – историко-философский путь, который прошла диалектика прежде чем, сначала у Гегеля, а потом у Маркса она выступила в качестве всеобщей теории развития природы, общества и мышления. Отметим только, что, если в объективно-идеалистической философии Гегеля придание диалектике (которая традиционно рассматривалась как сугубо логическая (гносеологическая по своей природе) метода) статуса всеобщей теории развития (то есть наделение диалектики онтологическим статусом), по крайне мере, объяснимо – это диктовалось спекулятивными нуждами философской системы Гегеля, то онтологизация диалектики у Маркса, который отказывается от идеализма Гегеля и переходит на рельсы философского материализма, – вообще не имеет объяснения. Описание развития в объективной действительности путём применения концептуального аппарата диалектики – это чистой воды антропоморфизм и (сегодня это очевидно!) не имеет никаких научных перспектив.
Резюмируя, надо сказать, что при всём почтении к богатой истории т.н. диалектического метода рассматривать диалектику как общую теорию развития объективной действительности просто ошибочно. Трактовка Марксом диалектики и его метода применения диалектики для описания процесса исторического развития общества должны быть четко проанализированы.
Сам ход логических умозаключений Маркса, приведших его к выводу о необходимости пролетарской революции, призванной обобществить все средства производства, отменить частную собственность на средства производства и начать, тем самым, построение социалистического – в пределе, коммунистического – общества, хорошо известен.
В основу этих рассуждений Маркс кладёт воспринятую им без должной критики т.н. трудовую теорию стоимости, которая была характерна для т.н. классической политэкономии (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо). Более того, Маркс в отличие от классиков огрубляет и радикализирует эту теорию. Если последние просто указывали на тот факт, что труд способен приносить прибавочную стоимость (с чем невозможно спорить), то Маркс полагает, что приносит прибавочную стоимость только т.н. «живой» труд (см. учение Маркса об органическом строении капитала), то есть труд наёмных рабочих.
Однако, во-первых, прибавочную стоимость может приносить не только живой труд, но и вообще не имеющие отношения к труду природные факторы, например, плодородная земля; во-вторых, даже живой труд далеко не всегда способен приносить прибавочную стоимость, последняя возникает только в том случае, если в результате труда повышается (по сравнению с полуфабрикатом) ценность произведенного продукта в глазах соответствующего потребителя или (в терминах рынка) увеличивается поток спроса на произведенный продукт; труд, таким образом, сам по себе не является ни единственно необходимым, ни единственно достаточным условием увеличения стоимости).
Если прибавочную стоимость приносит только живой труд, только наёмный рабочий, – рассуждает Маркс – то капиталист, предоставляющий капитал, то есть овеществленные средства производства – не участвует в приращении стоимости. Однако, будучи собственником конечного продукта, капиталист распоряжается всей прибавочной стоимостью, что и позволяет ему выплачивать наёмному рабочему в виде зарплаты лишь часть прибавочной стоимости, а другую часть капиталист – по Марксу, совершенно неправомерно – оставляет себе. Таким образом и происходит капиталистическая эксплуатация человека (наёмного рабочего) человеком (капиталистом).
Преодоление этой эксплуатации видится Марксом только на пути радикальной ликвидации частной собственности на средства производства, то есть ликвидации самого класса капиталистов. Миссию такой ликвидации должен, по Марксу, взять на себя класс эксплуатируемых, то есть рабочий класс. И – поскольку капиталисты явно незаинтересованы в своей ликвидации – преодоление капиталистической эксплуатации, как видится Марксу, может произойти (наиболее вероятно, что произойдет) насильственным образом, путём пролетарской революции. В результате производительные силы общества освободятся от пут частной собственности и, вырвавшись, таким образом, на свободу, обеспечат небывалую производительность труда, небывалый экономический расцвет общества.
Победоносная пролетарская революция в России 1917 года произвела, по сути дела, верификацию концептуальных построений Маркса. Оказалось, что отмена частной собственности и обобществление всех средств производства само по себе отнюдь не является гарантом экономического подъёма. Более того, экономическая эффективность социалистического хозяйственного уклада, как оказалось, существенно уступает экономической эффективности капиталистического хозяйственного уклада. Можно, таким образом, сказать, что научные предвидения Маркса оказались спорными. России в облике СССР пришлось существенно скорректировать прекраснодушные марксистские построения и для обеспечения своего индустриального (действительно выдающегося) развития прибегнуть к таким мерам принудительного труда, к такой степени эксплуатации непосредственных производителей (рабочих и крестьян), что этому мог бы позавидовать самый дикий капитализм.
А ведь проверку жизнью концептуальных построений Маркса можно было бы и не производить. Можно было бы заранее увидеть, что его теория прибавочной стоимости, и теория капиталистической эксплуатации человека человеком и, соответственно, теория пролетарской революции не являются непререкаемыми. Это не значит, что отсутствует сам феномен прибавления стоимости, не значит, что при капитализме не существует феномен эксплуатации человека человеком. Это значит, что описание всех этих феноменов является существенно более сложным, нежели то, какое оно даётся Марксом [Черников 2021а, Черников 2022], а пользоваться упрощенной – научно слабо состоятельной – схематикой Маркса, как минимум, деструктивно.
Наконец, отметим ещё одну научную слабость марксизма. Она касается принимаемой Марксом, что называется, по умолчанию, т.н. модели человека.
Надо сказать, что концепт «модель человека» вошёл в широкий научный обиход уже после смерти Маркса, но он оказался настолько плодотворным, настолько важным, что получил полные «права гражданства» в современном социально-гуманитарном познании и стал активно использоваться, в том числе и для обобщающей характеристики взглядов на природу и поведенческие особенности человека даже тех учёных и философов, которые термин «модель человека» не знали и не использовали.
Следует отметить, что в рамках современного социально-гуманитарного познания своего рода конкурентную борьбу между собой ведут два основных подхода к пониманию природы и поведенческих особенностей человека. Несколько огрубляя, можно сказать, что первый подход опирается на модель «человека экономического», а второй – на модель «человека социологического».
Собственно говоря, эти два подхода имеют давнюю историю и сложились задолго до появления в научном обороте термина «модель человека». Принципиальная разница между ними заключается в следующем.
Первый подход (в период Нового времени он в явном виде получил свое выражение в англоязычной философии утилитаристского направления: Д. Юм и, особенно, И. Бентам) за основу анализа общественных отношений берет отдельного человека, а общество рассматривает как соответствующее объединение преследующих свои интересы индивидов. Для этого подхода характерен принцип «методологического индивидуализма».
Второй подход (в Новое время он преимущественно развивался французскими философами-просветителями, в частности, Ж.- Ж. Руссо), наоборот, считает, что индивид в своих поведенческих характеристиках полностью определяется обществом, которое формирует все его привычки и навыки и заставляет играть те или иные социальные роли. В этом смысле, общество первично, а индивидуальное поведение вторично. Такой подход исповедует принцип «методологического холизма».
Надо сказать, что Маркс в понимании природы и поведенческих характеристик человека был полностью на стороне второго подхода. Как гласит его знаменитое определение «…сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [Маркс, Энгельс 1955: 3]. Соответственно, считает Маркс, изменение поведения человека надо начинать не с изменения общества, а путем соответствующего воспитания и образования в таком – измененном – обществе можно получить и «нового человека», полностью лишённого тех пороков, которые присущи человеку в обществе капитализма. Надо сказать, что эта позиция Маркса была в СССР очень близко воспринята и на философско-мировоззренческом, и на идеологическом уровнях и, соответственно, глубоко вошла в систему советского (и даже постсоветского) социально-гуманитарного образования.
В этом смысле, можно сказать, что отечественная система социально-гуманитарных представлений, полностью проникнутая марксистским пониманием природы человека, можно сказать «застыла» на уровне ХIХ века, практически не восприняв уроки ХХ-го.
А век ХХ весьма существенно обогатил научное представление о человеке и его поведенческих характеристиках. [Черников 2018]
Во-первых, научная концептуализация природы человека стала производиться преимущественно на основе понятия «модель человека». При этом, принцип «методологического индивидуализма» проводился направлением, рассматривающим как базовую модель «человека экономического». Принцип «методологического холизма» проводился направлением, рассматривающим как базовую модель «человека социологического»
Характерно, что в современном научном дискурсе первой своё операциональное использование получила модель «человека экономического». Это было сделано «с подачи» экономической науки, в которой в конце ХIX века произошла т.н. «маржиналистская революция», имеющая важнейшее (и явно недооцененное в отечественном обществознании) мировозренческо-методологическое значение не только для экономики, но и для всего социально-гуманитарного познания.
Основоположники маржинализма (К. Менгер, У.С. Джевонс, Л. Вальрас) отказались от характерного для классической политэкономии принципа «методологического холизма» и доказали плодотворность, по крайней мере, в сфере экономических отношений принципа «методологического индивидуализма», тем самым признав базовой и успешно работающей в рамках экономической теории модель «человека экономического». Практически все успехи экономической науки в ХХ веке были обязаны переходу последней на рельсы маржиналистской методологии, что значительно повысило реноме модели «человека экономического». Однако первоначальная попытка (первая половина ХХ века) распространить модель «человека экономического» на поведение целостного человека не увенчалась успехом, подвергнувшись вполне обоснованной критике со стороны, в первую очередь, социологов. Первоначальная (ортодоксальная) модель «человека экономического», главным принципом которой является понимание человека как рационального максимизатора некой характерной для него функции полезности, не могла объяснить очевидно наблюдающиеся случаи иррационального поведения человека, а также случаи экономически невыгодного поведения – альтруизм или просто следование моральным принципам.
В пику критикуемой ими модели «человека экономического» социологами в 1960-х годах была концептуализирована и введена в научный оборот модель «человека социологического», в которой поведение человека объяснялось, в первую очередь, с позиции выполняемых последним социальных ролей и функций при введении санкций за отклонение от считающегося нормативным поведения. [Dahrendorf 1958, Lindenberg 1985, Брунер 1993]
В отличие от ортодоксальной модели «человека экономического» модель «человека социологического» объясняла иррациональные и экономически невыгодные поступки индивида, но не имела концептуальных возможностей для объяснения того, как человек принимает решения в условиях определенного пространства выбора между возможными поведенческими вариантами, что, по крайней мере, в рамках экономики умела делать модель «человека экономического».
В результате, в начале второй половины ХХ века в социально-гуманитарном познании наблюдалось своего рода «двоевластие». В экономических науках использовалась преимущественно модель «человека экономического», в социологических науках – модель «человека социологического». [Автономов 2001] Но такое «двоевластие» было, очевидным образом, порочно с методологической точки зрения и не могло продолжаться долго. Надо было с единых позиций объяснить весь спектр поведенческих проявлений человека, взяв за основу либо модель «человека экономического», либо модель «человека социологического».
И уже в 1970-х годах такое «двоевластие» было нарушено. Возникло движение «экономического империализма», которое достигло впечатляющих успехов, весьма наглядно продемонстрировав вторичность, а не первичность модели «человека социологического». [Капелюшников 1989] Своим успехам движение «экономического империализма» было обязано тем усовершенствованиям, которым подверглась ортодоксальная модель «человека экономического». Произошел отказ от характерных для ортодоксальной модели «человека экономического» – чересчур жестких и нереалистичных презумпций. Так, например, модернизированная модель «человека экономического» (сохранив ключевой принцип объяснения поведения человека – максимизация некой целевой функции) отказалась от концепции «совершенной информации», не учитывающей издержки человека на получение и обработку информации, отказалась, тем самым, от представления о полной рациональности человеческого выбора, перейдя к концепции ограниченной рациональности [Саймон 1993], ввела в явном виде представления об издержках осуществления сделок (т.н. трансакционные издержки), отказалась от теории т.н. полных контрактов и т.д. Соответствующим образом модернизированная модель «человека экономического» проявила свой высокий объяснительный и эвристический потенциал и определила ключевой для всего современного социально-гуманитарного знания, претендующий на универсальность т.н. современный экономический подход.
Освобожденный от очевидно нереалистичных допущений о человеческой природе современный экономический подход продемонстрировал ряд впечатляющих успехов в деле «распространения сферы микроэкономического анализа на широкий круг человеческого поведения и взаимодействий между людьми, включая нерыночное поведение» (из мотивировочной части решения Нобелевского комитета о присуждении Г. Беккеру Нобелевской премии по экономике за 1992 год). Сам Беккер отмечал: «…я пришел к убеждению, что экономический подход является всеобъемлющим, он применим ко всякому человеческому поведению – к ценам денежным и теневым, к решениям повторяющимся и однократным, важным и малозначащим; к целям эмоционально нагруженным и нейтральным; к поведению богачей и бедняков, пациентов и врачей, бизнесменов и политиков, учителей и учащихся». [Беккер 2003: 35-36] «Экономический подход уникален по своей мощи, потому что он способен интегрировать множество разнообразных форм человеческого поведения». [Беккер 2003: 31.]
Нужно это признать и начать перестраивать систему социально-гуманитарного образования, взяв за основу не модель «человека социологического», а модернизированную модель «человека экономического», взяв за основу современный экономический подход.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье авторы хотели бы внести свой вклад в весьма актуальную задачу, стоящую сегодня перед системой отечественного социально-гуманитарного образования. Суть этой задачи заключается в отказе от устаревших и просто некорректных с точки зрения современного уровня развития социально-гуманитарной науки подходов и штампов и соответствующем обновлении содержательного наполнения отечественной системы социально-гуманитарного образования. Мы считаем, что в рамках выполнения этой задачи надо произвести корректную деинсталляцию марксистской концептуальной парадигмы, которой была полностью пропитана системой советского социально-гуманитарного образования и которая во многом осталась релевантной и для постсоветской системы образования.
Для осуществления такой – корректной – деинсталляции представляется целесообразным выделить наиболее уязвимые с точки зрения современной науки «места» марксизма и начать декомпозицию марксистской концептуальной парадигмы именно с этих «мест». Проведенный авторами анализ позволил артикулировать в качестве такого рода уязвимых мест следующие сюжеты, принятые в марксизме как основополагающие: материалистическое понимание истории; диалектика как учение о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления; учение о прибавочной стоимости и основанная на этом учении теория эксплуатации человека человеком и теория пролетарской социалистической революции; общее понимание природы и поведенческих характеристик человека, соответствующая имплицитно принимаемой Марксом модель «человека социологического».
Список литературы Проблемы социально-гуманитарного образования в современной России: марксистское наследие
- Автономов В. С. Модель человека в экономической теории и других социальных науках // ИСТОКИ. Вып.3. М.: ГУ ВШЭ, 2001. – С. 24-71.
- Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 672 c.
- Брунер К. Представление о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию общества // THESIS.1993. Вып. 3. – С. 51-72.
- Капелюшников Р. И. В наступлении – homo economicus // МЭиМО. 1989. № 4. – С. 142–148.
- Ленин В.И. Карл Маркс // ПСС. Т.26. М.: Изд-во политической литературы, 1973.
- Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. в 50т. Т. 3. М.: Государственное издание политической литературы, 1955.
- Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. в 50т. Т. 13. М.: Государственное издание политической литературы, 1959.
- Мартыненко В.В. Марксистское учение как катехреза // «Наука. Культура. Общество.», 2005, №1. – С. 147- 162.
- Поппер К. Логика научного исследования. М.: Республика, 2005. – 447 с.
- Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. – 1993. – Вып. 3. – С. 16 – 38.
- Фурсов А.И. «Биг Чарли», или о Марксе и марксизме // Русский исторический журнал. М., 1998. Т.I, № 2. – С. 335-429.
- Фурсов А.И. Предисловие // De Conspiratione / О заговоре. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. – С. 4-7.
- Черников М.В., Филатов Д.А. Модель человека в современном научном познании // Вестник ВГУ. Серия философия. – 2018, №1. – С. 71-90.
- Черников М.В. Проблема эксплуатации человека человеком: концептуальный анализ // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research, 2021, Том 10, Номер 12. – С. 27 - 39.
- Черников М.В. Марксизм – новый взгляд на классическую теорию // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research, 2021,Том 12, Номер 14 С. 18 - 27.
- Черников М.В. Базовый миф СССР: сравнительно-концептуальный подход // Вестник ВГУ. Серия Философия, 2021, №2. – С.98 -118. (ВАК)
- Черников М.В., Перевозчикова Л.С., Ершов Б.А., Авдеенко Е.В. NEW EDUCATIONAL APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF CAPITALISM AND SOCIALISM IN THE XIX-TH - EARLY XX-TH CENTURIES // Abstracts & Proceedings of SOCIOINT 2021- 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences, 14-15 June 2021. – Р. 196 – 200.
- Dahrendorf R. Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte. Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. – Opladen, 1958.
- Lindenberg S. An Assessment of the New Political Ecomony: Its Potential for the Social Sciences and for Sociology in Particular // Sociological Theory, – Spring 1985. – Р. 99 –113.