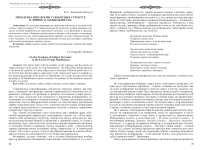Проблемы типологии субъектных структур в лирике О. Мандельштама
Автор: Каргашин Игорь Алексеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Материалы конференции "Мандельштам и его время"
Статья в выпуске: 1 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы типологии и поэтики субъектных структур лирики О.Э. Мандельштама. В частности, особое внимание уделяется степени выраженности лирического субъекта и его функциям в пределах поэтического текста. Впервые субъективность автора в «безличных» стихотворениях исследуется как текстопорождающий принцип поэтики Мандельштама. В итоге показано, что анализ мандельштамовской поэзии актуализирует проблему субъектной организации лирики в целом.
Лирика, автор, субъектная организация, лирический герой, типология
Короткий адрес: https://sciup.org/14914484
IDR: 14914484
Текст научной статьи Проблемы типологии субъектных структур в лирике О. Мандельштама
Современные классификации субъектных структур лирики, как правило, учитывают три фактора: степень выраженности («явленное™») лирического субъекта, его функции в пределах поэтического мира (выступает он лишь субъектом или становится и предметом изображения), соотношение его сознания с сознанием автора1. Однако, как показал анализ, типология текстов Мандельштама именно по этим базовым основаниям крайне затруднительна. Более того: попытки типологизации обнаруживают скорее недостаточность сегодняшнего подхода к анализу лирических субъектных структур в целом.
Так, общим положением стало выделение двух крайних форм субъектной организации лирических стихотворных текстов, см.: «Если представить себе субъектную структуру лирики как некую целостность, двумя полюсами которой являются авторский и геройный планы, то ближе к авторскому будут располагаться внеличные формы выражения авторского сознания, ближе к геройному (почти совпадая с ним) - герой ролевой лирики; промежуточное положение займут лирическое “я” и лирический герой»2. Но в том-то и дело, что в поэзии Мандельштама не совсем соблюдается (совсем не соблюдается?) и эта общая закономерность.
Во-первых, следует отметить, что к поэтике Мандельштама вообще вряд ли применимо обозначение «внеличный» («безличный» и т.п.) текст.
Ярчайшей особенностью его лирики является именно «личный» характер! Если даже субъект сознания не выражен грамматически (местоименными формами, окончаниями глаголов и т.п.), его личность отчетливо проявляется благодаря чрезвычайно индивидуализированному - изощренно-прихотливому неповторимому - видению предметов. Разумеется, точка зрения на мир, принцип отбора изображаемого всегда так или иначе «выдают» субъекта, но у Мандельштама мы встречаемся с качественно иным присутствием «наблюдателя», ср. хотя бы:
На мертвых ресницах Исакий замерз, И барские улицы сини -Шарманщика смерть, и медведицы ворс, И чужие поленья в камине...
Уже выгоняет выжлятник пожар -Линеек раскидистых стайку -Несется земля - меблированный шар -И зеркало корчит всезнайку.
Площадками лестниц - разлад и туман -Дыханье, дыханье и пенье -
И Шуберта в шубе замерз талисман -Движенье, движенье, движенье...3
(Далее стихотворения цитируются по тому же изданию, в скобках указаны страницы).
По классификации Кормана, перед нами «собственно авторская» лирика (в ее «безличном» варианте) - субъект сознания не выступает как «я» (все изображение выдержано в третьем лице), а потому, казалось бы, его внутренний мир не может быть предметом читательского восприятия. Показателен и образец такой лирики, который приводит исследователь («В разлуке есть великое значенье» Тютчева), и общий закон, им сформулированный: «Субъект сознания тем ближе к автору, чем в большей степени он растворен в тексте и незаметен в нем»4. В соответствии с этой закономерностью в собственно авторской лирике субъект сознания наиболее близок к автору, особенно удалены от него герои ролевой лирики.
Но в данном стихотворении Мандельштама лирический субъект, формально не выраженный и не названный, вовсе не «растворен» в тексте и, несомненно, «заметен» в нем. Здесь и экспрессия (см. перечисления: Шарманщика смерть, и медведицы ворс, /II чужие поленья в камине... и настойчивые повторы: Дыханье, дыханье и пенье... Движенье, движенье, движенье...), и ракурс восприятия объектов, и изощренный ряд ассоциаций-намеков («Шарманщика смерть» - Шуберт, стайка линеек - нотный стан и т.п.) делают субъекта предметом пристального читательского внимания. Точнее говоря, такой (так поданный) субъект сознания оказывается уже предметом изображения - «собственной темой», или субъектом-для-себя в терминологии С. Бройтмана.
Такого рода приемы «субъективизации» внеличных форм встречаются

уже в самой ранней лирике поэта, см. стихотворение 1909 г:
Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза, -Огромная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена Истомой - сладкое лекарство! Такое маленькое царство Так много поглотило сна.
Немного красного вина, Немного солнечного мая -И, тоненький бисквит ломая, Тончайших пальцев белизна... (26)
Показателен комментарий-интерпретация М. Гаспарова, увидевшего здесь «стихотворный натюрморт»: «просыпающаяся женщина, букет в вазе у изголовья, глоток вина и бисквит; отрывистые метафорические предложения заострены антиграмматической концовкой “И, тоненький бисквит ломая, Тончайших пальцев белизна”»5. В то же время, очевидно, что самодостаточным предметом лирического освоения становятся здесь не только изображаемое, но и сознание и сиюминутные чувствования того, кто воспринимает и выражает этот «натюрморт». Причем, по-видимому можно говорить о двух сознаниях, становящихся предметом воссоздания: видение и ощущения «героини» накладываются на восприятие этой «картины» лирическим субъектом. Ср., например: Огромная проснулась ваза - восприятие просыпающейся женщины, останавливающей взгляд на предмете, который прямо перед глазами; И, тоненький бисквит ломая, / Тончайших пальцев белизна... - наблюдение «со стороны», оценка «зрителя» (субъекта). Любопытно отметить, что восклицание - сладкое лекарство! - выражает общее ощущение героини и субъекта лирического высказывания, а многоточие в конце текста обозначает молчаливую сосредоточенность созерцателя натюрморта.
Субъективность созерцателя в «безличных» текстах становится текстопорождающим принципом поэтики Мандельштама в целом. Подобным образом выстроены тексты самых разных («серьезных» и шуточных, написанных «на случай») стихотворений: «Когда городская выходит на стогны луна...», «Вы, с квадратными окошками, невысокие дома...», «Орущих камней государство ...» (из цикла «Армения»), «И по-звериному воет лю-дье...», «Там, где купальни, бумагопрядильни...», «Импрессионизм», «Тянули жилы, жили-были...» и т.п. Способы интериоризации («оличнения» и «овнутрения») поэтического мира у Мандельштама очень разнообразны. Особенно выделяются среди них обращения, экспрессивно-оценочная лексика и интонация (прежде всего эпитеты, вопросительные и восклицательные конструкции).
Неслучайно эта авторская субъективность нередко «прорывается» наружу - например, сильные позиции текста выступают «оправданием» 70
индивидуально-неповторимого и сиюминутного видения. Типичная «модель» такого оправдания - стихотворение «О, бабочка, о, мусульманка...»:
О, бабочка, о, мусульманка, В разрезанном саване вся -Жизняночка и умиранка, Такая большая - сия!
С большими усами кусава Ушла с головою в бурнус.
О флагом развернутый саван, Сложи свои крылья: боюсь! (198) - здесь причудливая ассоциация (бабочка рождается из савана куколки, похожего на мусульманское покрывало) поддерживается приемами ин-териоризации (обращения, восклицания, ярко оценочные неологизмы), а последнее слово заключительного стиха обнаруживает источник (и причину!) столь непривычного взгляда.
В работе «О соотношении между семантикой поэтического текста и внетекстовой реальностью» Ю. Левин назвал неопределенность коммуникативного статуса и синкретизм (неотделимость фабульного от внефабуль-ного, духовного от материального, внутреннего от внешнего, личного от всеобщего, действительного от воображаемого и т.д.) важнейшими особенностями поэзии Мандельштама. Может быть, еще более очевиден «парадокс Мандельштама» в текстах с лирическим героем. Если в ранний период «я» автора «прорывалось» в безличных структурах, то у «позднего» Мандельштама (в стихах 30-х гг.) «почти каждое вхождение “Я” в текст отмечено напряженно личным началом, далеко выходящим за конвенциональные рамки лирического “самовыражения”... Это единство облика Я в текстах соотносится с единством личности и творчества во всех его проявлениях. Для М.-человека не существовало разных сфер: одной для домашнего употребления, другой - для “искусства”»6.
Казалось бы, здесь нет предмета для спора, все очевидно, ведь речь идет о таких исповедальных монологах, как «Пусти меня, отдай меня, Воронеж. ..», «Я должен жить, хотя я дважды умер...», «Да, я лежу в земле, губами шевеля...», «Нет, не спрятаться мне от великой муры...», «Я пью за военные астры...», «Еще далёко мне до патриарха...», «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...» и т.п.
Однако именно эти стихотворения не только заставляют корректировать сегодняшние представления о специфике субъектной организации лирических текстов, но и актуализируют проблемы понимания лирики как таковой - ее родовой природы в сравнении с эпосом и драмой. Об этом свидетельствуют прямо противоположные мнения в оценке одного и того же (фундаментального!) явления. Так, Л. Гинзбург (работы которой развивают концепцию «лирического героя» Ю. Тынянова) подчеркивала: «Личность поэта не была средоточием поэтического мира раннего Мандельштама - это момент чрезвычайно важный и для дальнейшего его развития. Позднее сказали бы, что Мандельштам - поэт без лирического героя» (подчеркнуто нами - ИК.)1. М. Гаспаров в статье «Мандельштам», приведя воспоминания И. Эренбурга, Н. Павлович, Г. Иванова, А. Ахмато- вой, резюмирует: «.. .все писавшие о Мандельштаме со стороны, начинали с того же самого: как непохож Мандельштам в быту на Мандельштама в стихах - или хотя бы на Мандельштама, читающего стихи»8.
С другой стороны, ср. принципиальное суждение Ю. Левина: «.. .я сознательно допускаю то, что принято считать методологической ошибкой, смешивая “Я” стихов и личность самого М. Думаю, что именно применительно к М. такой подход не только оправдан, но и необходим, - именно в силу нераздельности мандельштамовского “искусства” и “судьбы”»9.
На наш взгляд, сознательная «методологическая ошибка» - как и феномен Мандельштама в целом - ярчайшее свидетельство «типологического тупика» в современных представлениях о взаимоотношениях автора и субъекта в лирике. Обратим внимание, например, на полярные толкования сущности лирического высказывания вообще. Хорошо известно высказывание В.Е. Хализева о лирике: «Лирике в ее доминирующей ветви присуща чарующая непосредственность самораскрытия автора, “распахнутость” его внутреннего мира»10. Ср. утверждение М.Л. Гаспарова:
«Искренность, индивидуальность, психологическая неповторимость лирики - такая же литературная условность, как и все в поэзии... Авторская личность - лишь совокупность оттенков в подборе общепринятых в данной поэзии психологических и иных мотивов: они не более существенны, чем, скажем, стилистические предпочтения... “Я” в поэзии всегда условно: это не то, что автор есть, а то, чем он хочет быть. Хочет быть не столько из стремления выразить свою неповторимость, сколько из стремления выразить повторимость, социализироваться, стать оттенком общего вкуса»11.
Интерпретация и попытки аналитического рассмотрения лирики Мандельштама заставляют исследователя вновь и вновь обращаться к решенным, казалось бы, проблемам. В частности, выяснять понятие «лирический герой» - ключевое в теории автора. В самом деле, всегда ли лирический герой - «художественный двойник» (формула И. Роднянской) поэта - т.е. образ сочинителя, укорененный в поэтической традиции? Или же, «поверх конвенций», автор стихотворений способен высказаться напрямую (без каких бы то ни было двойников)? По «закону» Кормана, «по мере того, как субъект сознания становится и объектом сознания, он отдаляется от автора, то есть, чем в большей степени субъект сознания становится определенной личностью со своим особым складом речи, характером, биографией, тем в меньшей степени он непосредственно выражает авторскую позицию»12. Отдаляется ли Осип Мандельштам от автора в своей поздней лирике? Скажем, в строчках «Пусти меня, отдай меня, Воронеж...»?
Таким образом, «проблема типологии» не только в том, что у Мандельштама есть тексты «полисубъектные» (см. анализ стихотворения «Ламарк» в работах Ю. Левина) и случаи «неосинкретизма» - о чем писал С. Бройтман. Его тексты «выбиваются» из традиционных типологий в силу следующих основных факторов:
Е Неповторимо-личностное видение, отбор и оценка изображаемого: субъективность поэта «переплескивается» через границы типологий!
-
2. Сложная ассоциативно-образная природа его поэзии в целом («текучесть» и синкретизм лирических произведений).
-
3. Общая эволюция поэтики Мандельштама, которая делает невозможной типологию «по единому основанию» (разные «наполнения» дает лирическое «я» в разные периоды творчества).
-
1 Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов // Корман Б.О. Избранные труды. Теория литературы. Ижевск, 2006; Бройтман С.Н. Русская лирика XIX - начала XX века в свете исторической поэтики (субъектно-образная структура). М., 1997; Романова И.В. Поэтика Иосифа Бродского: лирика с коммуникативной точки зрения. Смоленск, 2007.
-
2 Бройтман С.Н. Лирический субъект // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008.
-
3 Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 217.
-
4 Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов // Корман Б.О. Избранные труды. Теория литературы. Ижевск, 2006. С. 317.
-
5 Гаспаров М.Л. Комментарии // Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 608-609.
-
6 Левин Ю.Н. Тридцатые годы // Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 99.
-
7 ГинзбургЛ.Я. Камень//Мандельштам О. Камень. Л.:, 1990. С. 272. (Литературные памятники).
-
' Гаспаров М.Л Мандельштам // Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 4. (Библиотека поэта).
-
9 Левин Ю.Н. Тридцатые годы // Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.,1998. С. 98.
-
10 Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2004. С. 328.
-
11 ГаспаровМ.Л. Введение // Лирика: генезис и эволюция. М., 2007. С. И.
-
12 Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов // Корман Б.О. Избранные труды. Теория литературы. Ижевск, 2006. С. 317.
Список литературы Проблемы типологии субъектных структур в лирике О. Мандельштама
- Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов//Корман Б.О. Избранные труды. Теория литературы. Ижевск, 2006
- Бройтман С.Н. Русская лирика ХIХ -начала ХХ века в свете исторической поэтики (субъектно-образная структура). М., 1997
- Романова И.В. Поэтика Иосифа Бродского: лирика с коммуникативной точки зрения. Смоленск, 2007
- Бройтман С.Н. Лирический субъект//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008
- Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 217
- Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов//Корман Б.О. Избранные труды. Теория литературы. Ижевск, 2006. С. 317
- Гаспаров М.Л. Комментарии//Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 608-609
- Левин Ю.И. Тридцатые годы//Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 99
- Гинзбург Л.Я. Камень//Мандельштам О. Камень. Л.:, 1990. С. 272. (Литературные памятники)
- Гаспаров М.Л. Мандельштам//Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 4. (Библиотека поэта)
- Левин Ю.И. Тридцатые годы//Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.,1998. С. 98
- Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2004. С. 328
- Гаспаров М.Л. Введение//Лирика: генезис и эволюция. М., 2007. С. 11
- Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов//Корман Б.О. Избранные труды. Теория литературы. Ижевск, 2006. С. 317