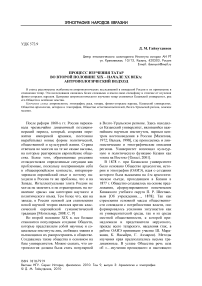Процесс изучения татар во второй половине XIX - начале XX века: антропологический подход
Автор: Гайнутдинов Дамир Минирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 3 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены особенности антропологических исследований в имперской России и их применение в отношении татар. Эти исследования оказались более сложными и имели свою специфику в отличие от изучения финно-угорских народов. Центрами антропологического изучения татар становятся Казанский университет, ряд его Обществ и особенно земства.
Антропология, этнография, раса, татары, финно-угорские народы, казанский университет, общество археологии, истории и этнографии, общество естествоиспытателей, волго-уральский регион, земские медики
Короткий адрес: https://sciup.org/14737254
IDR: 14737254 | УДК: 572.9
Текст научной статьи Процесс изучения татар во второй половине XIX - начале XX века: антропологический подход
После реформ 1860-х гг. Россия переживала чрезвычайно динамичный позднеимперский период, который, сохраняя пережитки имперской архаики, постоянно вырабатывал новые формы политической, общественной и культурной жизни. Страна отвечала во многом на те же самые вызовы, на которые реагировали европейские общества. Более того, образованные россияне отождествляли определенные ситуации как проблемные, поскольку воспринимали себя в общеевропейском контексте, интериори-зировали европейский опыт и поэтому находили в России те же проблемы, что и на Западе. Интеллектуальная элита России не могла не заметить и не отреагировать на появление «расы» как категории научного и политического языка. Тем более что, как на западе, в России основой для становления новой научной теории являлся кризис классической европейской гуманистической традиции [Могильнер, 2008. С. 9]
Во второй половине XIX в. все больше становится популярным создание Обществ, которые представляли собой научные и социальные институты лиц, любящих знания и пытающихся их распространять в обществе. Создавались такие общества в основном на базе университетов. Можно сказать, что антропология должна была стать популярной в Волго-Уральском регионе. Здесь находился Казанский университет, являвшийся важнейшим научным институтом, первым центром востоковедения в России [Мазитова, 1972; Валеев, 1998], где проводились и лингвистические и этнографические описания региона. Университет воплощал культурную и политическую функцию Казани как «окна на Восток» [Geraci, 2001].
В 1878 г. при Казанском университете было основано Общество археологии, истории и этнографии (ОАИЭ), идея о создании которого была высказана на 4-м археологическом съезде, проходившем в Казани в 1877 г. Общество создавалось на основе предложения, сформулированного попечителем Казанского учебного округа П. Р. Шестаковым [Об учреждении…, 1878]. Так как стремления основной массы общественности совпадали с потребностями власти, оно формировалось усилиями энтузиастов как из университетской среды, так и из среды местной общественности, к которой принадлежали и представители нерусского, прежде всего татарского, населения (так, в работе ОАИЭ принимали участие Ш. Мард-жани, К. Насыйри, Г. Ахмаров). Методы изучения края предполагались весьма традиционные. В уставе Общества речь шла об «…изучении прошедшего и настоящего
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 3: Археология и этнография © Д. М. Гайнутдинов, 2010
русского и инородческого населения в территории бывших Булгаро-Хазарского и Казанско-Астраханского Царств с прилежащими к ней местностями». Нужно отметить, что речь шла об изучении «археологическом, историческом и этнографическом» [Заседание…, 1877].
На заседаниях ОАИЭ делались доклады по археологии края, этнографии чувашей, мордвы, вотяков, казанских татар и иных народов. Общество организовывало этнографические и археологические экспедиции. Был создан свой музей, который задумывался как общедоступный просветительский центр региона, «богатого археологическими памятниками, историческими воспоминаниями и этнографическими особенностями» [Назипова, 2004. С. 224]. Однако, несмотря на наличие значительной и разнообразной коллекции, собранной в различных экспедициях, музей в полной мере не состоялся. Наиболее полно выставлялась его археологическая часть, а этнографические материалы за неимением помещений для их экспонирования и хранения передавались университетскому Музею отечествоведения [Там же. С. 223–231]. ОАИЭ выпускало «Известия», которые практически на всем протяжении своего существования сохраняли иммунитет против использования категории «расы» и методов физической антропологии [Могильнер, 2008. С. 86].
ОАИЭ при Казанском университете занималось изучением позитивного опыта влияния русской культурной, религиозной и административной колонизации, что никак не принижало ценности разнообразных исторических проявлений многокультурности региона. При этом миссия Общества формулировалась не в связи с прогрессом науки и необходимостью модернизации образовательного процесса в университете в частности, а как реализация исследовательской программы познания регионов России. В качестве основных потребителей этих знаний рассматривались имперские власти, которые все еще обсуждали «местные нужды… под влиянием одних только общегосударственных соображений» [О задачах…, 1884. С. 1]. Общество формулировало свои задачи в регионе следующим образом: «…возникает целый ряд исторических вопросов по отношению к этой области, столь важных для русской истории вообще – о русской колонизации, о просвещении ино- родцев, о влиянии Русских на инородцев и, наоборот, об особенностях управления в этом инородческом крае, о сопротивлении русскому владычеству и недовольстве инородцев…» [Там же. С. 8].
Однако в глаза бросается очень интересный факт. В ОАИЭ мало уделялось внимания изучению татар по сравнению с другими инородцами региона, такими как чуваши, мордва, марийцы (вотяки), удмурты (черемисы). Так, например, один из наиболее активных членов ОАИЭ профессор-историк И. Н. Смирнов, редактор Известий общества, специализировался на изучении инородцев финно-угорского происхождения. Именно И. Н. Смирнов составил «Программу для собирания сведений об обрусении инородцев Восточной России» [Смирнов, 1892]. Вообще для него этнография была историей русификации этнических меньшинств. Это и являлось причиной игнорирования И. Н. Смирновым и его коллегами татар, которые не воспринимались как потенциальные объекты полной культурной ассимиляции и даже вели собственную миссионерскую и образовательную деятельность среди финно-угорских народов [Geraci, 2001. P. 176–177]. Таким образом, И. Н. Смирнов и другие члены ОАИЭ работали в основном в рамках этнографии (однако обходили стороной изучение татар) и вообще не интересовались «физическим типом» изучаемого населения.
Антропология же стала развиваться в другом институте, тоже образовавшемся при Казанском университете. Им стало возникшее уже в 1869 г. Общество естествоиспытателей (ОЕ), изучавшее ВолгоУральский регион «в естестественно-исто-рическом отношении»: 12 мая 1869 г. по старому стилю декан физико-математического факультета И. А. Больцани открыл первое заседание Общества. Члены этого общества сотрудничали больше с Императорским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии, нежели с ОАИЭ. Это дисциплинарное размежевание, перенесенное из университетской иерархии в систему научных обществ, тем более любопытно, что в Казанском Обществе естествоиспытателей сотрудничали разные антропологи, некоторые из них в значительной степени ориентировались на археологию и этнографию, да и будущие основатели ОАИЭ вышли из недр Общества естество- испытателей. Видимо, при общности интересов и даже при взаимодополняемости методов линия размежевания проходила на уровне эпистемологическом (антропологическая парадигма versus традиционная этнографическая / историческая парадигма) и идеологическом (идеология универсального знания как самоценности versus идеология цивилизаторской миссии русских и совершенствование государственного управления и местного самоуправления). Именно поэтому разделение физической антропологии и этнографии в Казани сохранялось, даже несмотря на личные контакты между профессорами и сотрудничество обществ в деле проведения выставок и пополнения музеев, не говоря уже об общем интересе к археологическим раскопкам и изучению населения региона [Могильнер, 2008. С. 93]. Свои исследования члены Общества естествоиспытателей печатали в издании – Трудах Общества естествоиспытателей.
Нужно отметить, что антропологические исследования проводились в двух направлениях: это изучение трупов и костных останков и изучение непосредственно живых людей. Спустя несколько дней после открытия ОЕ, профессор кафедры физиологической анатомии П. Ф. Лесгафт (1837–1909 гг.) приглашенный в Казань в 1868 г., заявил: «Восточная Россия и Западная Сибирь, заселенная различными племенами монгольского, финского и славянского происхождения, есть, одна из наиболее богатых материалами местностей для антропологических исследований, представляющая чрезвычайно важный интерес для современной науки о человеке, почему он желал бы собрать коллекцию человеческих черепов и других частей тела… для составления Антропологического музея Общества» [Хомяков, 1914а. С. 3–4].
Тогда же П. Ф. Лесгафт просил разрешить исследовать на месте черепа в склепе памятника, поставленного в память о покорении Казани, а также оставлять для коллекции музея черепа и другие части трупов безродных татар при судебных вскрытиях. Тринадцатого сентября 1869 г. (по старому стилю) он продемонстрировал собранную им коллекцию татарских черепов, нескольких скелетов татар и череп из могилы в с. Болгары Спасского уезда. Постепенно ОЕ стало переходить на исследования и обмеры живых инородцев путем организации экспе- диций в уезды Казанской, Пермской, Вятской губерний. Но и в данных исследованиях больше внимания уделялось финноугорским народам (вотякам, черемисам, мордве, пермякам, вогулам и др.).
К членам ОЕ, активно привлекавшим данные археологии и этнографии, относился, например, Н. М. Малиев, доцент кафедры физиологической анатомии Казанского университета. Он проработал в Казани 19 лет, пока в 1888 г. не перешел в Томский университет. Важным является то, что Н. М. Малиев стал применять сравнительную антропологию, приводя антропометрические данные различных этносов региона [Малиев, 1874]. Через свои исследования он, например, пришел к выводу, что бесермяне происходят из татар, башкиры близки к татарам, особенно степные, а лесные башкиры более близки в среднеазиатским народам [Хомяков, 1914а. С. 12, 16].
В процесс антропологического изучения татар стали подключаться и московские ученые. Так, в 1876 г. была опубликована работа члена Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии З. Ю. Зографа «Антропологический очерк мещеряков Зауральской части Пермской губернии». Автор указывает «на нечистоту крови и особую плодовитость» среди мещеряков [Зограф, 1876. С. 10]. В 1879 г. вышла работа В. Н. Бензенгера по соматологии татар, в которой дается описание физического облика касимовских татар [Бензенгер, 1879].
Однако работы по непосредственному изучению татар стали появляться в начале XX в. М. М. Хомяков, например, указывал, что татары мало изучены, несмотря на то, что они – «ключ для многих загадок в антропологии» [Хомяков, 1914б. С. 2]. Так, в 1904 г. вышла в свет работа казанского земского врача А. А. Сухарева «Казанские татары. Опыт этнографического и медикоантропологического исследования». А. А. Сухарев в этой работе как исследователь и земский врач, отдавший досуг изучению казанских татар, указывая на малоизучен-ность татар и в историческом, и в этнографическом, и антропологическом отношениях, дает много интересной информации в разных сферах. Например, указывает на то, что мишари, касимовские и темниковские татары (Тамбовская губерния) называют себя «казанскими», только вот коренные казанские татары считают их изменниками и поэтому их отделяют, мишар называют «ярым урыс» (полурусские) [Сухарев, 1904. С. 6].
В этом же году в Русском антропологическом журнале была опубликована работа видного российского антрополога поляка Ю. Д. Талько-Гринцевича (1850–1936 гг.) «Антропологический очерк поволжских инородцев. Казанские татары». Автор был врачом по профессии. После 14-летней врачебной практики на Киевщине он 16 лет служил окружным врачом в Троицкосавске (ныне Кяхта, Бурятия). В 1908 г. уехал в Польшу и занял должность профессора антропологии Ягеллонского университета. Свое исследование он построил на обследовании 70 солдат из числа казанских татар, квартировавших в 1891 г. в Киеве. После анализа антропометрических данных он приходит к мнению, что казанские татары являются помесью всех типов [Талько-Гринцевич, 1904]. Более частной проблеме – пигментации татар Лаишевского уезда, посвящена статья М. Никольского «Цвет волос и глаз у татар Лаишевкого уезда Казанской губернии по таблицам Фишера и Мартина» [1912].
Таким образом, изучение татар в антропологическом направлении было начато П. Ф. Лесгафтом в «Обществе естествоиспытателей». Н. М. Малиев стал сравнивать антропологические данные татар с другими народами, на основе которых сделал некоторые выводы: бесермяне близки к татарам, башкиры, в особенности луговые родственны татарам. Однако сложность типологии татар, с одной стороны, их нежелание обследоваться – с другой, затрудняли осмотр. И поэтому многим членам «Общества естествоиспытателей» приходилось исследовать, прежде всего, финно-угорские народы.
В результате подробным антропологическим исследованием татар начинают заниматься земские медики (причем три работы являются диссертациями на степень доктора медицины). Вероятно, к этому их подтолкнула именно малоизученность татар, а они, ввиду своей профессии, имели доступ к их обследованию. Однако и у них возникали трудности: Ю. Д. Талько-Гринцевич указывает на стеснительность татар, а, например, И. Благовидов на то, что женщины у татар вообще к врачам не обращаются, и поэтому предлагает для мусульманок вводить в зем- ства врачей-женщин [Благовидов, 1886. С. 15].
Главным выводом антропологических обследований конца XIX – начала XX в. явилось положение о смешанности татар в расовом отношении.
THE PROCESS OF STUDYING THE TATARS IN LATE XIX AND EARLY XX CENTURIES: AN ANTHROPOLOGICAL APPROACH