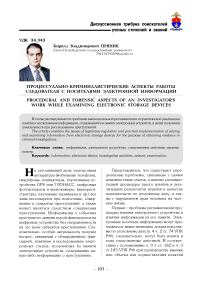Процессуально-криминалистические аспекты работы следователя с носителями электронной информации
Автор: Пряник Кирилл Владимирович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 2 (27), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы законодательной регламентации и практической реализации изъятия и исследования информации, содержащейся в памяти электронных устройств, в целях получения доказательств при расследовании преступлений.
Информация, электронное устройство, следственные действия, изъятие, осмотр
Короткий адрес: https://sciup.org/140196536
IDR: 140196536 | УДК: 34.343
Текст научной статьи Процессуально-криминалистические аспекты работы следователя с носителями электронной информации
Н а сегодняшний день электронная аппаратура (мобильные телефоны, смартфоны, компьютеры, портативные устройства GPS или ГЛОНАСС, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, видеорегистраторы, платежные терминалы и пр.) все чаще используется при подготовке, совершении и сокрытии преступлений, а также может являться средством совершения преступления. Информация о событиях преступного деяния порой фиксируется на цифровые устройства без направленности на это воли субъектов преступлений. Следовательно, особую актуальность получил вопрос, связанный с обнаружением, фиксацией, изъятием и исследованием электронных следов, полученных из памяти электронных устройств, содержащих какую-либо информацию о преступлении.
Представляется, что существуют определенные проблемы, связанные с самим изъятием таких следов, а именно регламентацией процедуры такого изъятия и легализацией результатов изъятия в качестве доказательств по уголовному делу, а также с нарушением прав человека на частную жизнь.
Первая – проблема регламентации процедуры изъятия электронного устройства и изъятия информации из его памяти. Электронные носители информации могут признаваться вещественными доказательствами по уголовному делу (п. 4 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), следовательно, могут быть изъяты в ходе следственных действий. В соответствии с положениями ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3 ст.183 УПК РФ при производстве выемки или обыска для осуществления изъятия электронного носителя информации обязательно участие специалиста. Отметим, что обязательность участия специалиста установлена законодателем в силу того, что необходимо соблюсти технически верный способ изъятия таких объектов, поскольку не каждый следователь обладает специальными знаниями для работы с электронновычислительной техникой. В рамках данной проблемы нам представляется необходимым расширить перечень таких следственных действий, при которых возможно изъятие электронного носителя информации, т.к. по своей сущности изъятие носителя в ходе осуществления обыска ничем не отличается от изъятия носителя, например, в ходе осмотра места происшествия.
Кроме того, УПК РФ содержит требование об обязательном участии специалиста в таких случаях, однако не содержит какой-либо регламентации участия такого специалиста. С учетом того, что получение доказательств является строго формальной процедурой, такая регламентация является необходимой. Она возможна путем издания соответствующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность специалиста в данной сфере. При формулировании конкретного алгоритма действий специалиста необходимо учитывать, что участие специалиста обусловлено необходимостью препятствования осуществлению сокрытия информации, содержащейся на различных устройствах, удалению такой информации, а также привнесению внешней информации в память устройств. Соответственно, необходима разработка последовательности действий, которая технически исключала бы возможность осуществления таких действий.
Возникает также вопрос о том, какие устройства можно отнести к категории электронных носителей информации. В соответствии с положениями подп. 3.1.9 ГОСТа 2.051-2013 под электронным носителем понимается "материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники " [1]. Использование данной формулировки в контексте рассматриваемых норм уголовно-процессуального законодательства позволяет относить к электронным носителям информации неограниченный перечень устройств, что на практике приводит к значительным затруднениям организационного характера. Из-за того что к этой категории можно отнести любое электронное запоминающее устройство, участие специалиста получается необходимо, например, при изъятии компакт-диска или USB-флэш-накопителя, хотя в большинстве случаев тактическая необходимость в этом отсутствует, к тому же это идет вразрез с принципом процессуальной экономии.
Следует отметить, что в пояснительной записке к Федеральному закону от 28 июля 2012 г. N№ 143-ФЗ определен перечень электронных носителей информации, при изъятии которых необходимо участие специалиста: компьютерные блоки, серверы, ноутбуки, карты памяти. Но не ясно, почему в данном перечне нет смартфонов, которые, по сути, являются полноценными компьютерами, но в небольшом форм-факторе. Следовательно, этот момент требует доработки законодателем, необходимо указать, при изъятии каких конкретно носителей информации требуется участие специалиста, причем речь идет не о составлении перечня предметов, а о создании четких категорий. В противном случае перечень будет подвергаться постоянному изменению в связи с техническим прогрессом и появлением новых устройств, а это нецелесообразно.
Представляется, что получение информации из электронного устройства должно производиться в два этапа. [3, с. 252]
Первый этап – изъятие электронного носителя информации в ходе осуществления соответствующего следственного действия. Порядок осуществления такого изъятия в ходе обыска и выемки прямо закреплен соответствующими положениями УПК РФ и, как представляется, не должен отличаться и в случае изъятия носителя в ходе осуществления иных следственных действий. Так, электронные устройства упаковываются, опечатываются и удостове- ряются подписями следователя, специалиста и понятых в целях обеспечения сохранности как самого устройства, так и информации, содержащейся в его памяти.
Возникает вопрос: всегда ли есть возможность изъятия устройства при осуществлении соответствующего следственного действия? Представляется, что в данном случае необходимо руководствоваться общими положениями ст. 177, 182 УПК РФ, указывающими на то, что предмет должен иметь отношение к уголовному делу, другими словами, следователь должен при осуществлении такого изъятия обладать достаточными данными, позволяющими сделать вывод о том, что предмет (или информация, в нем содержащаяся) имеет отношение к соответствующему уголовному делу.
Второй этап – извлечение и исследование информации, содержащейся в памяти изъятого электронного устройства, – непосредственно связан с проблемой легализации полученной информации в качестве доказательства по уголовному делу.
Возникает вопрос: в ходе какого следственного действия возможно осуществление такого извлечения и исследования информации. Самый распространенный способ в практической деятельности – осуществление следователем с участием специалиста осмотра предмета (в данном случае электронного устройства), в ходе которого осуществляется извлечение информации и результаты которого оформляются протоколом осмотра предмета. В таком протоколе описываются все действия следователя, а также вся обнаруженная при помощи специальных средств информация.
В настоящее время универсальным устройством извлечения информации является мобильно-криминалистический комплекс UFED израильской компании Cellebrite, позволяющий извлекать, декодировать и анализировать данные с мобильных устройств, а также создавать соответствующие отчеты на необходимом качественном уровне. UFED поддерживает большинство мобильных устройств, оснащенных такими операционными системами, как iOS, Android, Symbian, Widows. А также, что немаловажно, является портативным устройством. Однако данный мобильно-криминалистический комплекс – разработка не российского производителя, а ее приобретение доступно любым гражданским лицам. Следовательно, видится целесообразным проводить разработки российских мобильно-криминалистических комплексов с целью снижения рисков, связанных со шпионажем, а также рисков того, что злоумышленники смогут создать схемы защиты своих собственных данных в связи с открытой продажей UFED.
Процессуальной основной использования таких специальных средств, в частности системы UFED, принято считать положения ч. 6 ст. 164 УПК РФ, которые устанавливают, что при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. То есть такие специальные средства имеют процессуальный статус технического средства обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления в ходе осуществления следственного действия. Такой подход представляется небесспорным, исходя из самого содержания такого следственного действия, как осмотр предмета. Осмотр предмета – это следственное действие, направленное на собирание информации путем внешнего осмотра предмета и отражения его результата в протоколе осмотра, а не изъятие информации с помощью специальных средств. Таким образом, электронное устройство может быть предметом осмотра только в случае, если с его помощью было совершено преступление, оно являлось орудием совершения преступления или предметом хищения. Исходя из этого необходимо сначала извлечь информацию из памяти электронного устройства, а затем ее осматривать при помощи такого следственного действия, как осмотр предмета, с оформлением соответствующего протокола. Также следует отметить, что не все суды знакомы с мобильно-криминалистическими комплексами, в частности UFED, принципами его работы, при этом практика его применения только формируется. Представляется целесообразным внести соответствующие изменения в УПК РФ, выделив изъятие информации из памяти электронного устройства в отдельное следственное действие. [2, с. 22-23]
Еще один вариант процессуального оформления изъятия информации – это извлечение информации из памяти электронного устройства посредством проведения компьютерно-технической экспертизы. В таком случае перед экспертом ставятся вопросы о наличии в устройстве каких-либо файлов (сообщений, фотографий, видеозаписей и др.), эксперт извлекает соответствующую информацию и отображает ее в своем заключении. Данный способ также представляется весьма спорным, поскольку перед экспертом ставятся вопросы о наличии соответствующих фактов, и, соответственно, в своем заключении эксперт должен дать ответ именно на вопрос о наличии или отсутствии соответствующих файлов, но никак не об их содержании.
При осуществлении изъятия информации возможна ситуация изъятия не только информации, связанной с совершенным преступлением, но и информации о частной жизни владельца электронного устройства, не связанной с преступлением. Например, из смартфона извлекаются фотографии, не имеющие отношения к расследованию уголовного дела. Возникает проблема: соответствует ли такая ситуация положениям ст. 23 Конституции РФ, гарантирующей право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Нам представляется, что в таком случае сам факт изъятия электронного устройства и извлечение из его памяти информации не будет являться нарушением права на частную жизнь, поскольку для целей расследования будет использоваться только информация, связанная с совершенным преступлением, распространение же иной информации осуществлено не будет. К такому выводу приходит и судебная практика (например, апелляционное постановление Приморско- го краевого суда N№ 22-5674/15 22К-5674/2015 от 24 сентября 2015 г. URL: sudact. ru). Исходя из этого необходимо отметить, что следователю при наличии на то возможности, необходимо дать специалисту конкретные указание на то, какая информация должна быть получена (например, указать на конкретную дату, время и др.), с целью максимально уменьшить возможность изъятия информации, не связанной с уголовным делом.
Самым распространенным для изъятия электронным устройством является смартфон, память которого содержит информацию о телефонных соединениях, сообщениях, видео-, фото -, аудиозаписях и др. При этом возникает вопрос о необходимости получения судебного решения для осуществления изъятия устройства и получения информации из его памяти. Так, в соответствии с ч. 2 ст.23 Конституции РФ ограничение права на тайну переписки и телефонных переговоров возможно только на основании судебного решения. В продолжение этих положений в ст. 29 УПК РФ установлено, что для получения информации о соединениях между абонентами и для изъятия корреспонденции из организаций связи необходимо решение суда. С одной стороны, положения Конституции РФ прямо устанавливают запрет на получение информации о переписке без судебного решения, с другой – в соответствии с положениями УПК РФ судебного решения требует выемка корреспонденции только из учреждений связи. Думается, в данном случае положения УПК РФ не соответствуют смыслу той гарантии прав, которую предоставляют положения Конституции РФ, поскольку содержание корреспонденции никак не меняется в зависимости от того, в какой форме она существует – бумажной или электронной и где находится – в учреждении связи или в смартфоне. Поэтому можно сделать вывод о том, что если целью изъятия информации с электронного устройства является получение информации о соединениях или о переписке, то для такого изъятия необходимо решение суда.
Таким образом, изъятие информации из памяти электронных устройств является необходимым инструментом расследования уголовных дел. Однако действующее законодательство не содержит достаточной регламентации осуществления соответству- ющих действий и нуждается в доработке с целью обеспечения баланса интересов государства и общества в раскрытии преступлений и права человека на охрану информации о его частной жизни.
Список литературы Процессуально-криминалистические аспекты работы следователя с носителями электронной информации
- ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения: введен в действие приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст//СПС КонсультантПлюс.
- Зуев, С.В. Электронное копирование информации -регламентация в УПК/С.В. Зуев//Законность. -2013. -№ 8.
- Савицкая, И.Г.Участие специалиста в следственных действиях, связанных с изъятием электронных носителей информации/И.Г. Савицкая//Судебная власть и уголовный процесс. -2016. -№ 2.