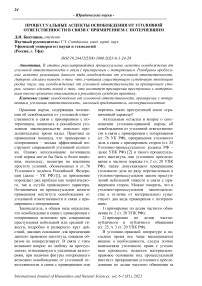Процессуальные аспекты освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
Автор: Бикташев Д.И.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 6-1 (81), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются процессуальные аспекты освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Разобраны проблемные аспекты реализации данного вида освобождения от уголовной ответственности. Автором сделаны выводы о том, что, учитывая существующую устойчивую тенденцию роста числа лиц, освобожденных от уголовной ответственности за примирением сторон, можно сделать вывод о том, что институт примирения преступника с потерпевшим вполне органично вписывается в российскую судебную практику.
Освобождение от уголовной ответственности, примирение с потерпевшим, уголовная ответственность, законный представитель, несовершеннолетние
Короткий адрес: https://sciup.org/170199534
IDR: 170199534 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-6-1-24-29
Текст научной статьи Процессуальные аспекты освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
Правовая норма, содержащая положения об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, появилась в российском уголовном законодательстве довольно продолжительное время назад. Практика ее применения показала, что примирение с потерпевшим – весьма эффективный инструмент современной уголовной политики. Однако использование потенциала этой нормы могло бы быть и более широким, поскольку, несмотря на внешнюю простоту условий, обозначенных в ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1], ее применение порождает ряд проблем как теоретического, так и сугубо прикладного характера. Остановимся на процессуальном аспекте применения института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Законодатель, в общем виде определяя, что освобождение в связи с примирением с потерпевшим возможно при совершении преступления небольшой или средней тяжести, подробно и развернуто круг действий, дающих основание для применения данного правового института, никаким образом не конкретизирует. В связи с этим возникает вопрос: по любому ли преступлению, относящемуся к указанным категориям, при наличии фигуры потерпевшего возможно освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением или перечень таких преступлений носит ограниченный характер?
Актуальным остается и вопрос о соотношении уголовно-правовой нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ – далее УПК РФ) [2] и такого процессуального института, как уголовное преследование в частном порядке (ч. 2 ст. 20 УПК РФ), также допускающего прекращение уголовного дела по ряду перечисленных в уголовно-процессуальном законе преступлений небольшой тяжести в связи с примирением сторон. Можно говорить, что в уголовно-процессуальном законодательстве в отличие от материального существуют два вида примирения с потерпевшим:
-
1) примирение по делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ);
-
2) примирение по делам частнопубличного и публичного обвинения (ст. 25, ч. 3 ст. 20 УПК РФ).
В уголовно-правовой литературе в последнее время все чаще высказывается мнение о необходимости, следуя логике взаимосвязи уголовного права с уголовным процессом, подвести материальноправовое основание под процессуальный институт прекращения уголовного преследования по делам частного обвинения за примирением сторон. В этой связи предлагается включить в текст уголовного закона специальное положение императивного характера о такой разновидности освобождения от уголовной ответственности, как примирение с потерпевшим по делам частного обвинения, которое не предусматривает никаких иных юридически значимых условий освобождения от уголовной ответственности, кроме самого примирения. Кроме того, предлагается существенно расширить перечень дел частного обвинения, закрепив его в тексте уголовного закона [3, с. 157].
Анализируя подобные предложения, мы приходим к выводу, что в конечном итоге расширение перечня дел частного и частно-публичного обвинения и их закрепление в материальном уголовном законе должны будут привести к унификации уголовно-правовой и уголовнопроцессуальной регламентации примирения с потерпевшим, которое, на наш взгляд, в качестве обязательного вида освобождения от уголовной ответственности должно применяться только в отношении дел частного или частно-публичного обвинения. По делам же публичного обвинения в качестве основания освобождения от уголовной ответственности целесообразно использовать норму о деятельном раскаянии, тем более что заглаживание причиненного вреда включено в ч. 1 ст. 75 УК РФ как обязательный содержательный признак.
Следует обратить внимание и на тот факт, что вопросы возникают и в связи с самостоятельной реализацией законным представителем права на примирение с виновным без согласия потерпевшего. Такая возможность предусмотрена в ст. 25 УПК РФ, в то время как в ст. 76 УК РФ какое-либо указание на законного представителя отсутствует.
Проблема существует в ситуации, когда потерпевшими от преступления являются физические лица, чья способность к свободному волеизъявлению ограничена в силу возраста или состояния психики: речь идет о лицах, страдающих психическими или физическими недостатками, а также несовершеннолетних.
В Обзоре судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием указано, что «в случаях, не связанных со смертью потерпевшего, представитель потерпевшего не вправе заявлять такое ходатайство и в ходе производства по делу вправе лишь представлять и поддерживать его» [4]. Полагаем, позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу вполне обоснованна. В этом случае необходимо руководствоваться положениями уголовного, уголовнопроцессуального и гражданского законодательства РФ. Поскольку на сегодняшний день российскому уголовному праву институт представительства, в том качестве, в каком он понимается в гражданском праве, неизвестен то вряд ли следует признавать право на примирение с лицом, совершившим преступление, за законными представителями не способных самостоятельно осуществлять свои права лиц, признаваемых потерпевшими [5, с. 255]. Так, если потерпевшим по уголовному делу является пятилетний ребенок, его мнение по поводу применения данного правового института не имеет никакого веса с юридической точки зрения, поскольку он не является полностью дееспособным, способным отдавать отчет своим действиям. Если потерпевший не может высказать своего мнения относительно дальнейшей траектории судебного процесса, законный представитель не может его и поддержать. В этом ключе нельзя не упомянуть о разъяснениях, данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» [6] (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19), в п. 11 которого закреплено, что: «Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители (часть 2 статьи 45 УПК РФ), имеющие те же процессуальные права, что и потерпевший (часть 3 статьи 45 УПК РФ)».
При этом ключевым в данной дискуссии является следующее утверждение: «если мнение несовершеннолетнего потерпевшего по вопросу о примирении с обвиняемым и прекращении уголовного дела не совпадает с мнением его законного представителя, то основания для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон отсутствуют». Подобные разъяснения, данные Верховным Судом РФ, как нам видится, являются обоснованными и мы склонны поддерживать эту позицию.
С другой стороны, не очевидно, как решать вопрос при конфликте мнений потерпевшего и его законного представителя относительно примирения, например, в ситуации, когда пятнадцатилетний ребенок хочет примириться с отцом, обвиняемым по ст. 156 УК РФ, но его мать как законный представитель возражает против этого. Представляется, что в подобной ситуации приоритетным является мнение потерпевшего, однако оценка его добровольности в каждом конкретном случае должна исследоваться судом с учетом всех обстоятельств дела.
Полагаем, что применительно к рассматриваемому перечню актуальных проблем положения уголовного и уголовнопроцессуального законов следует привести к единому образу либо путем введения в уголовное право института представительства с указанием полномочий представителя, либо путем исключения из числа субъектов примирения законных представителей в процессуальном законе (за исключением представителей юридического лица), сохранив это право исключительно за потерпевшим, если таковым является физическое лицо.
При применении правовой нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевший проблемы возникают также при оценке преступления как впервые совершенного. В теории уголовного права как впервые совершенные рассматриваются преступления, фактически совершенные впервые (до совершения рассматриваемого деяния лицо фактически не совершало деяний, подпадающих под признаки преступлений, либо не было за эти действия привлечено к уголовной ответственности), и преступления, юридически совершенные впервые (деяния, совершенные после аннулирования всех правовых последствий ранее совершенного преступления, например, погашение судимости). Полагаем, что при установлении признаков как фактически, так и юридически совершенного преступления следует обращать внимание на спорные правовые ситуации при совокупности преступлений и в случае совершения преступления в иностранном государстве.
При идеальной совокупности преступлений каждое из деяний, составляющих совокупность, рассматривается как впервые совершенное. В названном выше Обзоре судебной практики содержится серьезное теоретическое обоснование подобной рекомендации: «Согласно УК РФ преступлением признается общественно опасное деяние, запрещенное Кодексом под угрозой наказания, а не его юридическая оценка. При идеальной совокупности даже впервые совершенное общественно опасное деяние может получить юридическую оценку по двум статьям Уголовного кодекса, однако указанное обстоятельство, видимо, не может свидетельствовать о неоднократности совершения лицом преступлений применительно к рассматриваемому институту освобождения от уголовной ответственности, поскольку объективно привлекается оно к уголовной ответственности фактически за одно реальное деяние, и, следовательно, к нему может быть применена ст. 25 УПК РФ. Поэтому представляется, что в подобных случаях прекращение уголовных дел возможно и в отношении лиц, чьи действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса».
В ситуации реальной совокупности вопрос об определении преступления, совершенного впервые, получил неоднозначное решение в правоприменительной практике. Первоначально в вышеназванном Обзоре судебной практики Верховный Суд занял следующую позицию: при реальной совокупности – впервые совершенным следует считать первое по времени совершения преступление (при этом время совершения преступления определяется в соответствии с ч. 2 ст. 9 УК РФ как время совершения деяния вне зависимости от времени наступления последствий), а все последующие деяния не могут рассматриваться как совершенные впервые.
Верховный Суд РФ указывает, что наличие в действиях лица множественности преступлений исключает оценку всех их как совершенных впервые, поскольку хотя первое из них в совокупности противоправных деяний действительно и может рассматриваться как впервые совершенное, но остальные объективно уже таковыми не будут.
Позднее в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [7] Пленум ВС РФ поддержал прямо противоположную точку зрения, указав на то, что «впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести следует считать лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении его не вступил в законную силу». Это означает, что впервые совершенным можно считать любое из преступлений, входящих в совокупность. Следует отметить, что подобный подход серьезно изменит практику применения института примирения с потерпевшим в сторону ее расширения.
Полагаем, что несмотря на тот факт, что данное разъяснение было дано применительно к практике назначения наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним, оно может быть использовано правоприменителем и в приведенных ситуациях освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Проблема оценки преступления как впервые совершенного возникает, если лицо ранее было осуждено за совершение преступления в иностранном государстве. В теории уголовного права единой позиции по данному вопросу не сложилось [8, с. 376]. Но, основываясь на систематическом толковании текста уголовного закона
(ст. 12 УК РФ), считаем, что осуждение лица на территории иностранного государства является для российских правоприменительных органов юридически значимым при условии соблюдения принципа двойной криминальности в случае полного или частичного отбывания наказания на территории РФ в случае его передачи в РФ.
В этой связи особое значение приобретает разъяснение, данное в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» [9]. В соответствии с под пунктом «г» п. 9 к таковым относится лицо, осужденное к лишению свободы по приговору суда другого государства (включая страну-участницу Содружества Независимых Государств), которое в связи с последующей передачей его в Россию для дальнейшего отбывания наказания отбывало лишение свободы в исправительном учреждении Российской Федерации в соответствии с судебным решением о принятии приговора к исполнению.
В настоящее время возникает достаточное число вопросов касательно процессуальных аспектов применения правового института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Следовательно, необходима более активная роль следственных органов и суда в процедуре примирения, например, предусматривающая обязательное разъяснение права на примирение и условий освобождения от ответственности обвиняемому и потерпевшему. В связи с тем, что даже ученым-правоведам порой сложно установить истину в данном вопросе, рядовым гражданам, не вникающим в тонкости уголовно-процессуального законодательства, не обойтись без соответствующей помощи.
В заключение стоит отметить, что, учитывая существующую устойчивую тенденцию роста числа лиц, освобожденных от уголовной ответственности за примирением сторон, можно сделать вывод о том, что институт примирения преступника с потерпевшим вполне органично вписывается в российскую судебную практику.
Список литературы Процессуальные аспекты освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
- Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 28 апреля 2023 г. № 161-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891 (дата обращения: 13.05.2023).
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 17 февраля 2023 г. № 30-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073942 (дата обращения: 13.05.2023).
- Баранова М.А., Егоров Е.В. О проблемных аспектах примирения потерпевшего с обвиняемым по уголовным делам частного обвинения // Вестник СГЮА. - 2018. - № 6 (125). - С. 155-162.
- Обзор судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2005 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".
- Романова Т.Б. Некоторые аспекты содержания и реализации института представительства в уголовном процессе, его социальная значимость в условиях усложняющейся правовой системы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 4 (36). - С. 253-256.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" // Официальный сайт Верховного Суда РФ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/own/8350/(дата обращения: 13.05.2023).
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" // Официальный сайт Верховного Суда РФ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/own/8470/(дата обращения: 13.05.2023).
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 года №9 "О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений": постановление Пленума Верховного Суда РФ // Официальный сайт Верховного Суда РФ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/own/8383/(дата обращения: 13.05.2023).
- Сатыгин, В.Д. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной ответственности: история и практика // Молодой ученый. - 2015. - № 14 (94). - С. 375-378.