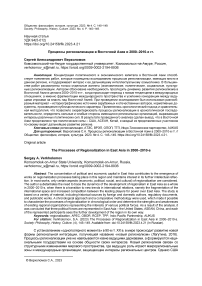Процессы регионализации в Восточной Азии в 2000-2010-е гг
Автор: Верхоломов Сергей Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
Концентрация политического и экономического капитала в Восточной Азии способствует появлению работ, которые посвящены исследованию процессов регионализации, имеющих место в данном регионе, и поддерживает интерес к ее дальнейшему интеллектуальному осмыслению. В большинстве работ рассмотрены только отдельные аспекты (экономические, политические, социальные, культурные) регионализации. Автором обоснована необходимость проследить динамику развития регионализма в Восточной Азии в целом в 2000-2010-е гг., когда происходит переход к новым тенденциям в международных отношениях, а именно фрагментации международного пространства и усилению конкуренции между ведущими игроками за власть над Восточной Азией. При проведении исследования был использован разнообразный материал - историографические источники зарубежных и отечественных авторов, нормативные документы, произведения публицистического характера. Применялись хронологический подход и сравнительная методология, что позволило охарактеризовать процессы регионализации в хронологической последовательности, определить сильные и слабые стороны имеющихся региональных организаций, выражающих интересы различных политических сил. В результате проведенного анализа сделан вывод, что в Восточной Азии представлено три политические силы - США, АСЕАН, Китай, и каждый из представленных участников по-своему видит дальнейшее развитие региона.
Регионализация, атэс, врэп, опоп, ттп, индо-тихоокенское партнерство
Короткий адрес: https://sciup.org/149142239
IDR: 149142239 | УДК: 94(5-012) | DOI: 10.24158/fik.2023.4.21
Текст научной статьи Процессы регионализации в Восточной Азии в 2000-2010-е гг
Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия, ,
Komsomolsk-on-Amur State University, Komsomolsk-on-Amur, Russia, ,
не хотят мириться со сложившейся ситуацией, поэтому всячески стремятся противостоять этим изменениям, что, несомненно, влияет на развитие процессов регионализации в Восточной Азии.
Американская модель регионализации в Восточной Азии . Региональная площадка Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должна была стать проводником процесса либерализации торговли в регионе Восточной Азии. На Богорской конференции, проходившей в ноябре 1994 г., лидеры государств Азиатско-Тихоокеанского региона приняли декларацию, согласно которой страны обязываются не позднее 2020 г. завершить процесс полной интеграции1.
Однако АТЭС так и не удалось стать проводником интеграционных процессов в регионе. Очередным ударом по американской модели регионализации Восточной Азии стал односторонний подход администрации Буша при реализации внешнеполитической доктрины. Уход США из региона способствовал возвышению Китая в Восточной Азии. С целью противодействия китайской экспансии в регионе американская администрация инициировала создание новой международной организации, в результате чего в 2005 г. было подписано соглашение о Транстихоокеанском стратегическом экономическом партнерстве (ТТП) между Сингапуром, Чили, Новой Зеландией и Брунеем. В 2008 г. к соглашению присоединились и США. К 2016 г. количество членов ТТП достигло 12. Основной целью создания ТТП, как было отмечено выше, было сохранение власти США над регионом, в том числе противодействие возвышению Китая. В 2015 г., выступая перед конгрессом, 44-й президент США Б. Обама заявил: «Китай хочет установить правила для быстроразвивающегося региона в мире. Почему мы должны это допустить? Мы должны устанавливать эти правила»2. Соглашение являлось источником давления на внутреннюю и внешнюю политику Китая. Для вступления в ТТП Китаю было рекомендовано провести реформы в областях, обозначенных региональной организацией. Это означало, что, во-первых, проводя реформы, Китай был вынужден присоединиться к системе, возглавляемой США, а во-вторых, Соединенные Штаты могли оттягивать процесс включения Китая в соглашение ТТП путем смещения акцента на проведение реформ в сферах, попадающих под юрисдикцию этой организации (Ye, 2015).
Но в 2017 г. президент Д. Трамп объявил о выходе США из соглашения ТТП, поэтому интеграционные процессы в Восточной Азии в рамках данной организации затормозились. С приходом к власти нового президента США Дж. Байдена американские власти отказались от ранее проводимой политики в Восточной Азии, разработанной администрацией Д. Трампа. Соединенные Штаты вернулись к идее формирования региональной площадки в целях сдерживания Китая. Многие исследователи думали о возрождении ТТП, но США пошли по новому пути. С целью укрепления многосторонней архитектуры региональной безопасности (ориентированной на Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США) и распределения власти в регионе Восточной Азии была создана новая региональная площадка – AUKUS (акроним, образованный из названий участников – Австралия, Великобритания, США)3.
Таким образом, США стремятся сохранить свое влияние и власть в регионе через международные экономические и политические организации – ТТП, Индо-Тихоокеанское партнерство, AUKUS. И этому есть несколько объяснений. Во-первых, Восточная Азия – это быстроразвиваю-щийся регион, от которого в будущем будет зависеть дальнейшее развитие мира. Во-вторых, в Восточной Азии представлен самый главный враг США – Китай, который бросил вызов американскому международному порядку.
Китайская модель регионализации в Восточной Азии . Си Цзиньпин в 2013 г. в Казахстане, а в 2014 г. уже и в Индонезии выдвинул предложение о реализации собственного интеграционного проекта в регионе Восточной Азии, получившего название «Один пояс – один путь» (ОПОП). В течение всего 2014 г. Китай продвигал данную идею на различных форумах (в том числе Боаоском), площадках, саммитах, ежегодных встречах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и т. д. А в 2015 г. для финансового сопровождения реализации проекта «Новый шелковый путь» был основан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), участниками которого к концу того же года стали уже 57 стран.
При выдвижении и реализации проекта «Новый шелковый путь» Китай стремился решить несколько проблем (задач). Первая из них – это желание Китая проводить интеграционные процессы в Восточной Азии без участия США. В 2014 г. на четвёртом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходившем в Шанхае, председатель ЦК КПК Си Цзиньпин заявил, что народы Азии должны управлять делами Азии, решать проблемы Азии и поддерживать безопасность в Азии1. И хотя Китай напрямую не заявляет о своей ведущей роли в регионе и выстраивает партнерские отношения со всеми участниками проекта, но проводимая им политика, которую можно охарактеризовать как долговая дипломатия, свидетельствует об обратном.
Второй задачей для Китая, возглавляемого Си Цзиньпином, стало практическое воплощение сценария, озвученного ещё Дэн Сяопином, согласно которому КНР должна занять ведущее место в международной системе после распада СССР (Poh, Li, 2017).
В-третьих, реализация проекта «Новый шелковый путь» позволит Китаю решить и некоторые внутренние проблемы – сократить разрыв в уровне развития между регионами КНР путем строительства инфраструктурных проектов, связывающих прибрежные районы Китая с другими его областями.
Знаковым моментом при реализации проекта стало основание АБИИ, целью создания которого была замена в Восточной Азии Международного Валютного Фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), под непосредственным контролем которых разрабатывались экономические реформы, приводящие к разорению тысяч жителей Таиланда, Филиппин и Индонезии.
На данный момент многие страны Юго-Восточной Азии переформатируют свою внешнюю политику и включаются в интеграционные процессы в Восточной Азии, осуществляемые Китаем. Но на пути воплощения своих планов в регионе у Китая возник ряд трудностей, которые замедляют интеграционный процесс в Восточной Азии под его руководством. Это разрыв в развитии регионов, сепаратизм уйгуров и тибетцев, проблема бедности. А под влиянием последствий вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19 и последовавшей за ней пандемии к перечисленному ряду проблем присоединилось ещё и снижение темпов роста ВВП в стране.
Поэтому до сих пор возможности Китая в решении международных проблем остаются очень ограниченными по сравнению с США. К тому же опыт использования мягкой силы для распространения своей власти в регионе у него незначительный по сравнению с теми же Соединенными Штатами. Быстрое распространение мягкой силы США после холодной войны способствовало американизации процессов глобализации, изменяя динамику силового соперничества и ставя исторические задачи не только перед развивающимися странами, но и перед крупными западными. Китай же до недавнего времени мало уделял внимания этому направлению во внешней политике (Aukia, 2019).
Последним препятствием на пути к региональному господству Китая является его противоречивая внешняя политика. С одной стороны, китайское руководство осыпает развивающиеся страны инвестициями, а с другой – Китай сильно влечет поиграть мускулами с теми же государствами. Поэтому в Восточной Азии складывается противоречивый образ Китая, чем, несомненно, решаются воспользоваться США, Индия, Япония, переманивая партнеров КНР на свою сторону.
В итоге мы видим, что Китай создает собственный вариант глобализации и регионализации на основе углубления сотрудничества с глобальным Югом, бросая вызов сложившемуся международному порядку, где господствуют ВБ, МВФ, Запад и США. И для достижения поставленной цели им была разработана международная инициатива, направленная на совершенствование торговых путей, которая поручила название «Один пояс – один путь» .
Асеановская модель регионализации в Восточной Азии . Наряду с КНР и США в Восточной Азии в XXI в. можно выделить третий центр интеграционных процессов, сердцем (опорой) которого является АСЕАН. С момента образования этого регионального блока прошло более 50 лет, но его влияние в современном мире не угасает, а даже увеличивается. В условиях нарастания противоречий между великими державами в Восточной Азии страны Юго-Восточной Азии вынуждены объединяться с целью минимизации ущерба и извлечения максимальной выгоды от этого соперничества. Малые страны нуждаются в балансе сил в регионе, так как в случае сближения великих держав автономия государств Юго-Восточной Азии будет урезана. И, наоборот, конфликт между США и КНР приведет к нарастанию напряженности в регионе, и малые страны будут вынуждены выбрать одну из сторон, а это ограничит их политику нейтралитета (Murphy, 2017).
В 2012 г. страны Юго-Восточной Азии подписали соглашение о свободной торговле, которое постепенно привлекло внимание других участников из Азиатского региона – Австралии (2013), Японии (2014), Китая (2014), Индии (2014), Республики Корея (2016), Новой Зеландии (2016). В итоге это привело к тому, что в 2020 г. в Ханое было подписано Соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). В данной структуре регионального сотрудничества центральное место заняли не Китай и США, а государства Юго-Восточной Азии, и система отношений выстроилась на основе сотрудничества в формате «АСЕАН плюс». Благодаря торговым соглашениям страны Юго-Восточной Азии стремились защитить свои рынки от последствий экономического кризиса, но в итоге это привело к укреплению экономических связей между странами Восточной Азии (Aukia, 2019).
Региональное сотрудничество в рамках ВРЭП в первую очередь направлено против китайской экспансии, поэтому неформально страны АСЕАН отдают лидерство Японии, и она использует свой шанс для выстраивания собственного проекта региональной архитектуры. Токио продвигал политику «открытого регионализма», подразумевающего включение в интеграционные процессы внешних игроков – США, Индии, стран Тихоокеанского региона1. Ведь вовлечение в процесс регионализации крупных игроков могло увеличить престижность международного проекта, а вместе с этим должно было усилить позиции Японии в Восточной Азии.
Однако выбранная стратегия не увенчалась успехом. США отказались участвовать в международном проекте, а после ухода Индии, не согласившейся с принципом «открытого регионализма», будущее проекта на данный момент выглядит трагично. К тому же страны АСЕАН испытывают сложности в формировании региональной идентичности, они отличаются уровнем развития экономики и демократии, религиями, культурой, одни стремятся к сотрудничеству с Китаем (Филиппины, Камбоджа, Таиланд), а другие – с Индией (Вьетнам), Австралией (Индонезия) и Японией (Вьетнам, Индонезия) (Xi , Primiano, 2020).
Непривлекательность проекта ВРЭП для стран Азии вызвана и тем, что главными для обсуждения стали вопросы интеллектуальной собственности, экологии, приватизации и национализации, вызывающие раздражение у отдельных его участников. Также с выходом США из ТТП и отказом от участия в ВРЭП произошло усиление позиций Китая в Азии, что нивелировало соглашения о региональном экономическом партнерстве.
Таким образом, с окончанием холодной войны динамика и направление развития региональных процессов изменились. На сегодняшний день в регионе есть три интеграционных центра, предлагающих свой собственный вариант строительства процессов регионализации в Восточной Азии. Это США с соглашением Транстихоокеанского партнерства, которое получило новый формат с приходом президента Дж. Байдена, – Индо-Тихоокенское партнерство и AUKUS, Китай, выступающий за продвижение и реализацию предложенный Си Цзниьпином инициативы «Один пояс – один путь», и АСЕАН с проектом ВРЭП. США и Китай, выдвигая свои проекты регионального сотрудничества в Восточной Азии, стремятся укрепить позиции в регионе, страны же АСЕАН, напротив, хотят защитить свои интересы от великих держав. В связи с этим процессы регионализации в Восточной Азии на современном этапе пошли по пути конфронтации и напряженности, что вызвано борьбой малых и крупных государств за власть в регионе.
Список литературы Процессы регионализации в Восточной Азии в 2000-2010-е гг
- Лагутина М.Л. Мир регионов в мировой политической системе XXI века. СПб., 2016. 300 с.
- Aukia J. Struggling for recognition? Strategic disrespect in China’s pursuit of soft power // East Asia. 2019. Vol. 36, no. 4. P. 305-320. https://doi.org/10.1007/s12140-019-09323-9.
- Murphy A.M. Great power rivalries, domestic politics and Southeast Asian foreign policy: Exploring the linkages // Asian Security. 2017. Vol. 13, no. 3. P. 165-182. https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1354566.
- Poh A., Li M. A China in transition: The rhetoric and substance of Chinese foreign policy under Xi Jinping // Asian Security. 2017. Vol. 13, no. P. 1-14. https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1286163.
- Ye M. China and competing cooperation in Asia-Pacific: TPP, RCEP, and the new silk road // Asian Security. 2015. Vol. 11, no. 3. P. 206-224. https://doi.org/10.1080/14799855.2015.1109509.
- Xi J., Primiano Ch. China’s influence in Asia: How do individual perceptions matter? // East Asia. 2020. Vol. 37, no. 3. P. 181-202. https://doi.org/10.1007/s12140-020-09334-x.