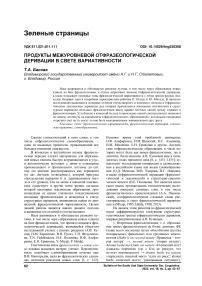Продукты межуровневой отфразеологической деривации в свете вариативности
Автор: Басова Татьяна Александровна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Зеленые страницы
Статья в выпуске: 3 т.19, 2022 года.
Бесплатный доступ
Язык развивается и обогащается разными путями, в том числе через образование новых единиц на базе фразеологизмов, и статья затрагивает явление отфразеологической деривации, а также описывает основные типы фразеологической вариативности с точки зрения разных подходов. Впервые дается подробная характеристика работам П. Исиды и Ю. Миядзи. В процессе исследования выявляются основные отличия отечественного и японского подхода к отфразеологическим лексическим дериватам, ряд которых причисляется японскими лингвистами к структурным вариантам исходных фразеологизмов ввиду крайне плотных связей между словами и фразеологизмами. Углубление в японский подход и прояснение связей соотнесенности позволяет по-новому взглянуть на взаимосвязь отфразеологических образованиий с исходными единицами и пролить свет на то, могут ли они быть межуровневыми эквивалентами друг друга.
Фразеологическая вариативность, фразеологическая деривация, лексические варианты, словообразование
Короткий адрес: https://sciup.org/147238670
IDR: 147238670 | УДК: 811.521:811.111 | DOI: 10.14529/ling220308
Текст научной статьи Продукты межуровневой отфразеологической деривации в свете вариативности
Сжатие словосочетаний в одно слово, в том В разное время этой проблемой занимались
числе отфразеологическое словообразование, – один из языковых процессов, привлекающий все большее внимание лингвистов.
В японском и английском языках фразеологизмы нередко служат материалом для образования новых единиц, быстро встраивающихся в узус, и автоматически вступают с ними в отношения производящего и производного, поэтому до сих пор это явление рассматривалось как деривация (от лат. derivatio «отведение»), которой присуща определенная иерархия (т. н. деривационное гнездо и его уровни). Тем не менее в японской лингвистике существует и другая точка зрения, согласно которой некоторые лексические образования, произошедшие от идиом, считаются тождественными исходным фразеологизмам и возводятся в статус структурных вариантов, являющихся одним из проявлений фразеологической вариативности. Целью данной работы является анализ данного подхода и выявление его отличий от отечественного.
Язык развивается и обогащается разными путями, в том числе через образование новых единиц на базе фразеологизмов, что принято называть фразеологической деривацией, являющейся объектом исследований ученых с разных ракурсов (А.В. Кунин, Н.М. Керимзаде, В.Н. Пугач, Т.Н. Федуленко-ва, T.N. Fedulenkova, И.Е. Половова, Н.Ф. Алефи-ренко, Е.Н. Ермакова, Y. Miyaji, Р. Ishida).
Генетическая связь фразеологизм → новое слово издавна вызывала интерес ученых. Перспективность подобного словообразования отмечал еще В.В. Виноградов, видя во фразеологических единицах источник рождения новых слов [3, с. 122].
Н.Ф. Алефиренко, Н.М. Шанский, О.С. Ахманова, В.М. Мокиенко, Е.Н. Ермакова и другие. Английские отфразеологические образования, в числе которых могут быть как новые фразеологизмы, так и лексемы, были описаны А.В. Куниным еще в пятидесятых годах прошлого века [6, с. 1451–1455]; существуют исследования компрессии и словосложения в английском языке как видов словообразования (О.Д. Мешков, М.В. Умерова, И.Г. Ищенко), а также отфразеологической деривации (фразеологической и лексической) в структурно-семантическом аспекте (И.Е. Половова). Что касается японского языка, производились типологические исследования японских сложных слов, в том числе фразеологического происхождения (А.А. Пашковский), а отфразеологические сложные слова рассматривались в свете фразеологической вариативности (Miyaji, 1985; Ishida, 1998, 2015).
На данном этапе развития во фразеологической науке дифференцируются следующие структурногенетические группы отфразеологических дериватов, впервые разграниченные А.В. Куниным:
-
1. Вторичная фразеологизация, т. е. образование новых фразеологизмов из более длинных ФЕ (чаще всего пословиц) путем обособления группы инициальных, финальных или срединных компонентов ( Habit is (a) second nature ‘Привычка – вторая натура’ → second nature ‘вторая натура’; Abunai hashi mo ichido wa watare «И опасный мост однажды пересеки» (ср. с Кто не рискует, тот не пьет шампанского) → abunai hashi wo wataru «пересекать опасный мост» ‘идти на риск’; abunai hashi «опасный мост» ‘рискованная ситуация’).
-
2. Лексическая деривация (отфраземное словообразование), которая, согласно Н.Ф. Алефи-ренко, в свою очередь подразделяется на два вида: а) морфолого-синтаксический способ [1, с. 104-109], т. е. образование сложных слов как минимум из двух компонентов фразеологизма с усечением или без усечения остальных в зависимости от длины ФЕ ( to make smb. s head spin ^ head-spinningly ‘невероятно, поразительно’; mimi ni tatsu «стоять в ушах» ^ mimidatsu ‘запоминаться, звучать в ушах’); б) лексико-морфологический способ: одиночный компонент фразеологизма наделяется новыми значениями, перенятыми от ФЕ, но в языке начинает функционировать с морфологическими преобразованиями (аффиксами, окончаниями). В выражении gyuuji wo toru «брать ухо быка» ‘лидировать, верховодить’ gyuuji - это цельное слово, состоящее из двух корней китайского происхождения (корнесложное слово) со значениями «бык, корова» и «ухо». Gyuuji - это старокитайское заимствование, и этимологически фразеологизм восходит к «Цзо-чжуань», в котором описан обряд отрезания уха быку при заключении договора между правителями или князьями. В японском такие ФЕ называются kojiseigo ( Й^^ап - идиоматические выражения, восходящие к историческим событиям или классической литературе Китая). В современном японском языке морфема ji ‘ухо, уши’ выделима и может участвовать в других корнесложных словах, но обособленно не используется. Путем добавления к корнесложному слову gyuuji ‘уши быка’ типичного глагольного окончания ru (что весьма необычно, так как к китаизмам в японском обычно добавляется вербализатор suru) образуется глагол gyuujiru (букв. «быкоушить») с тем же значением, что и у ФЕ: ‘верховодить’. Новая семантика развивается у одного компонента фразеологизма, но благодаря морфологическим изменениям образуется лексическая единица, ранее не существовавшая в языке. В японском языке в сфере отфразеологической деривации ‒ это редчайший случай. Такое явление возможно и в русском: например, тянуть канитель ^ канителиться . Ср. с a lame duck ^ duck ‘неудачник’ (морфологических преобразований нет, только семантические). Таким образом, мы имеем лексические дериваты не из двух, а из одного компонента ФЕ (простого или сложного слова) с семантическим сдвигом, спровоцированным значением фразеологизма; в данном способе сочетаются признаки лексической и семантической деривации.
-
3. Семантическая деривация, т. е. обогащение семантики отдельных слов, являющихся концептуально важными или смыслообразующими компонентами фразеологизма, без иных преобразований ( to cut the Gordian knot ^ Gordian ‘гордиев’; ‘запутанный’; взбрело в голову ^ взбредать ‘с трудом подниматься’; ‘вздуматься’; gyuuji wo toru («брать ухо быка») ‘верховодить, быть лидером’ ^ gyuuji (букв. «быкоухо») ‘уши быка’; ‘гла
Не следует смешивать это понятие с квантитативными вариантами, которые все же сохраняют полную тождественность с исходными единицами.
варь воров-карманников’ (жарг.)). По Н.Ф. Алефи-ренко, этот способ также именуется лексикофразеологической конденсацией, т. е. «смысловой компрессией производящей фраземы и вычленением из ее состава одного из компонентов» [1, с. 101]. Такие компоненты могут вбирать в себя семантику фразеологизма как полностью, так и частично.
Однако чтобы составить полную картину от-фразеологической деривации, необходимо упомянуть еще об одном частном случае лексической деривации, обнаруженном в японском языке: фразеологической аббревиации, то есть образовании сложносокращенных слов из двух компонентов фразеологизма. См. подробнее в [2, с. 423-429].
Слова на базе фразеологизмов образуются вследствие ряда факторов, которые условно можно разделить на объективные и субъективные. Перечислим основные из них.
Объективные факторы: а) типологический характер языка, который определяет модели сочетаемости на разных его уровнях, а также степень естественности и распространенности того или иного вида словообразования (в данном случае словосложения и универбации, то есть «склеивания» словосочетаний или предложений), б) закон речевой экономии (экономии времени и усилий), описанный еще А. Мартине в 1955 году, как принцип языковой организации и движущая сила языковых процессов, в том числе сжатия языковых единиц, в) быстрый темп развития мира, возникновение новых явлений и состояний, требующих новых номинаций.
Субъективные факторы: а) стремление носителей заполнить лакуны, достичь большей семантической емкости, б) расширить синтаксический и синтагматический потенциал образа, заключенного в ФЕ, так в синтаксисе и сочетаемости лексемы ведут себя свободнее и многовалентнее, чем фразеологизмы, в) создать яркие, экспрессивные образы, проявить креативность, языковое творчество, г) стремление повысить эффективность коммуникации, д) стремление к варьированию и разнообразию, в том числе чтобы избежать в тексте или речи повторений, заменив уже употребленную в одном месте ФЕ на иную единицу номинации - отфра-зеологическую лексему, сохраняющую тот же образ, - в другом месте (см. об этой тенденции в [5, с. 182-183]).
Процесс отфразеологического словообразования наблюдается и в английском, и в японском, и в русском языках, но с некоторыми индивидуальными особенностями. Английский и японский языки в целом демонстрируют гораздо больший словообразовательный потенциал фразеологических единиц с соматическими компонентами, чем русский. Русский язык ввиду особенностей своей структуры и сравнительно слабых тенденций к лексикализации идиоматических словосочетаний значительно уступает двум другим языкам. Некоторые ученые отмечают перспективность возникновения окказиональных отфразеологических сложных слов в современном русском языке:
Е.Н. Ермакова отмечает: «Раскрепощённость носителей языка – отличительная черта современной эпохи, и, как следствие этого, в языке наблюдается обилие всевозможных новообразований, которые ориентированы не на правила, общие для всех носителей языка, а на способности, заложенные в системе языка. Появление окказиональных слов в языке, образованных на базе фразеологизмов, – это и есть, чаще всего, те новообразования, которые вызваны временем и заполняют лакуны лексической системы, не занятые имеющимися нормативными лексемами» [4, с. 210]. Таким образом, свобода выражения позволяет носителям создавать новые лексемы под определенные цели, но в русском «…инновации появляются как окказионализмы, и только немногие из них впоследствии приобретают статус узуальных лексем»; «…даже став полноправными единицами языка, эти производные лексемы нередко имеют ярко выраженную разговорную окраску и сохраняют эмоциональную выразительность» (напр., не от мира сего – неотмирасегошный) [4, с. 206]. В русском языке отфразеологические лексемы с соматическим компонентом не только сравнительно малочисленны, но и с трудом закрепляются в узусе, чаще оставаясь лишь авторским словотворчеством с яркой стилистической окраской. В английском и японском языках наблюдается более высокая продуктивность отфразеологического словообразования и быстрое закрепление подобных единиц в употреблении, о чем свидетельствуют следующие показатели:
-
1 . Исторически сформировавшиеся структурные и словообразовательные модели в системах английского и японского языков; в японском языке словосложение (в том числе на базе словосочетаний) признается самым производительным видом словообразования, согласно Масаёси Сибата-ни [10, c. 237]; возможности самих языковых систем легко допускают и даже провоцируют естественное сращивание словосочетаний в единые лексемы, что позволяет продуктам этого преобразования гладко встраиваться в общий лексический фон. Модели сложных слов очень устойчивы и воспроизводятся в новообразованиях. К примеру, весьма продуктивно в плане словообразования проявляют себя как неидиоматические, так и идиоматические словосочетания со структурой прилагательное + существительное (субстантивные сочетания) в английском и существительное + глагол (глагольные и предикативные сочетания) в японском. Также в английском распространен способ лексикализации многокомпонентных неидиоматических и идиоматических словосочетаний любой структуры через постановку дефисов между компонентами, в том числе для создания окказиональных составных слов (temporary compounds), что говорит о продуктивности модели.
Ключевым моментом, разграничивающим эквивалентные единицы (варианты) и производные единицы (фразеологические дериваты), является сохранение или разрыв тождества, наличие или потеря общего инварианта информации. Т.Н. Фе- дуленкова, обсуждая краткие ФЕ, образованные на базе многокомпонентных английских пословиц, поднимает вопрос о том, являются ли они фразеологическими вариантами или фразеологическими дериватами, и приходит к выводу, что они не могут относиться к фразеологической вариативности, если не сохраняют все свойства фразеологического тождества, сформулированного А.В. Куниным в его докторской диссертации, даже если имеют определенные ассоциативные связи со своим фразеологическим прототипом. Потеря более чем двух третей лексического инварианта помимо других семантических и стилистических нюансов закрепляет их в статусе фразеологических дериватов [8, c. 47].
Отфразеологические лексемы тем более не принято связывать с фразеологической вариативностью: они уже не относятся к фразеологическому уровню языка. А.В. Кунин выделяет следующие ключевые отличия, не позволяющие каким бы то ни было лексическим единицам (синонимичным или производным) выступать в качестве эквивалентов ФЕ:
-
• слово – это единица другого уровня языка;
-
• фразеологизм, будучи раздельнооформ-ленным, иначе актуализируется в дискурсе;
-
• общность грамматических функций не должна быть переоценена, так как не означает одинаковое функционирование в синтаксисе и сочетаемость;
-
• сходства между лексемами и фразеологизмами все равно не заслоняют специфики последних [7, с. 17‒18].
Однако есть ли во фразеологизме и его лексических производных нечто эквивалентное? А.В. Кунин, обсуждая связь фразеологизмов и синонимичных лексем, отходит от зыбкого понятия «слово-эквивалент» и видит в сходных по смыслу единицах отношения соотнесенности; для исследования этих отношений, как он пишет, «…особое внимание уделяется словам, являющимся словарными идентификаторами фразеологизмов» [7, с. 21]. Отфразеологические лексемы, использующиеся в том числе для идентификации фразеологизмов в словарных статьях, все же отличаются от обычных лексических синонимов в дефинициях фразеологизмов тем, что имплицитно содержат гораздо больше уникальной информации (семантической, стилистической, лингвокультурной), унаследованной напрямую от ФЕ-прототипов, и в некоторых случаях сохраняют их полную специфику. Связи соотнесенности гораздо ниже у пары «with half a heart – inertly», чем у пары «with half a heart – half-heartedly», что представляет большой исследовательский интерес. Последняя пара настолько близка, что дает возможность исследовать ее с точки зрения совпадения ключевой инвариантной информации, имплицитно присутствующей в обеих единицах в максимальной концентрации, и проанализировать степень тождественности ФЕ и лексемы.
Именно такой взгляд на проблему обнаруживается у японских исследователей. Японский подход к проблеме отфразеологических лексем изна- чально получил развитие с другого ракурса – ракурса вариативности. В статье «Идиомы и подобные им единицы: словосочетания, пословицы и сложные слова» Ютака Миядзи впервые обращает внимание на составные лексемы, возникшие из двухкомпонентных фразеологизмов и обладающие тем же идиоматическим значением, указывая на их сильную связь с порождающими единицами [13, c. 70]. Опираясь на исследования Мураки (1985), Морита (1985) и Ито (1989), Присцилла Исида отмечает, что, несмотря на то, что ФЕ обладают достаточной устойчивостью, некоторые из них все же могут претерпевать изменения внешней формы, и приводит примеры разных пар вариантов, среди которых перечисляются в том числе и отфразеоло-гические сложные слова (複合語 – fukugougo, т. е. слова, состоящие из двух и более знаменательных морфем): me ni tatsu → medatsu ‘выделяться’ (лек-сикализация фразеологизма), kageguchi wo kiku → kageguchi wo tataku ‘злословить’ (лексическая замена), kuchiguruma ni noru → kuchiguruma ni noseru ‘завлечь сладкими речами/повестись на сладкие речи’ (морфологическое преобразование переходного глагола в непереходный) и т. д. Формулируя базовое понятие вариативности, П. Исида пишет: «Фразеологической вариативностью (вариантами) (慣用句の変異形 – kan’youku no hen’ikei) называют манифестацию структурного и семантического соответствия одних идиом другим идиомам и сложным словам, подобно перечисленным выше» [11, c. 43].
Под понятием структурных изменений вариантов ( 構造的変化 – kouzouteki henka ) она подразумевает изменения в структуре и грамматической функции, которые дают два типа фразеологических вариантов:
-
1. Фукуго:го – сложные слова как вид структурных вариантов:
-
а) частеречный характер или грамматическая функция которых не меняется: me ga sameru ‘осознать’ → mezameru ‘осознать’ (глагольная ФЕ → глагол);
-
б) частеречный характер которых меняется посредством словоизменения (изменение основы глагола): kuchi wo dasu ‘встревать (в разговор)’ → kuchidashi ‘встревание’ (глагольная ФЕ → существительное), то есть происходит процесс конверсии, когда глагол переходит в рэнъёкэй (вторая основа глагола или т. н. континуативная форма, позволяющая ему выступать и как существительное). Такие существительные свободно вербализуются образно через suru : kuchidashi suru ‘встревать’.
-
2. Квантитативные варианты, при которых добавляется или сокращается количество составляющих ФЕ [11, c. 46].
Кроме этого, она также выделяет варианты с частичным изменением лексического состава ( 語彙的変化 – goiteki henka ), под которым подразумевает стандартную лексическую вариативность.
В последующих работах Исида опирается на эту же трактовку: фразеологические варианты определяются как два и более идиоматических вы- ражения с подобным лексическим составом и значением и имеют статус относительно стабильных единиц японского языка (т. е. не окказиональны) [12, c. 80]. Фразеологические варианты «немного разнятся в лексике и структуре, но при этом имеют много общего в формальных и семантических характеристиках, поэтому можно сказать, что они в отношениях соотнесенности (対応関係 – taiou kankei). Они распространены в употреблении и зафиксированы в словарях, что свидетельствует об их узуальности» [9, c. 55]. При этом Исида отмечает интуитивный характер освоения проблемы вариативности в сфере японского языка: «Очевидно, что исследования японской фразеологии в некоторой мере охватили феномен фразеологической вариативности. Однако до настоящего момента ученые опирались на интуицию, собирали данные вручную или в узконаправленных базах данных. Данная статья предлагает использовать данные корпусов текстов, чтобы получить более ясную картину вариативности, включая типы вариантов, устоявшиеся формы ФЕ, их частоту и распространенность» [9, c. 81], что подтверждает общее впечатление недостаточной разработанности этого вопроса. Фокусируясь в исследованиях на идентификации фразеологизмов, их общей характеристике, методах извлечения вариантов из японских корпусов текстов и выстраивании статистики, она, как и другие японские исследователи, не очерчивает достаточно строгие границы самого термина фразеологический вариант, особенно относительно сложных слов. «Отфразеологическое сложное слово – это вариант, возникший вследствие структурных изменений в выражении, а именно вследствие сокращения количества компонентов (выпадения служебных частиц)» [9, c. 81‒82]. Исида, разумеется, принимает во внимание разницу между лексической и фразеологической единицей, но отмечает, что в японском языке при лексикализа-ции ФЕ часто сохраняется категориальная принадлежность: глагольные ФЕ порождают глаголы, а адъективные ФЕ – прилагательные; при возникновении существительных возможна вербализация через глагол suru ‘делать’, который реализует грамматическую функцию действия, но не несет знаменательного смысла (me ga kiku → mekiki suru ‘подмечать, оценивать’). Надо заметить, что такое встречается и в английском: to search one’s heart – to do heart-searching ‘заниматься самоанализом’.
Главным в теории Исиды является тезис о том, что сложные слова выражают значение идиомы. Опираясь на представленные в ее исследованиях примеры (me ni tatsu ‘выделяться’ – medatsu ‘выделяться’, me ga sameru ‘осознать’ – mezameru ‘осознать’, hanamochi ga naranai ‘непереносимый’ – hanamochinaranai ‘непереносимый’, mimi ni sawaru ‘резать слух’ – mimizawari ‘неприятный на слух’, kuchi wo dasu ‘вмешиваться’ – kuchidashi ‘вмешательство’, hara ga kuroi ‘злой, аморальный’ – haraguroi ‘злой, аморальный’, kokoro ni kakeru ‘держать в памяти’ – kokorogakeru ‘держать в памяти’ и др.), можно сделать вывод, что вариантами названы не любые отфразеологи- ческие дериваты, а только те сложные слова, которые образовались от двухкомпонентных фразеологических единиц с глагольным или адъективным компонентом (как предикативных, так и построенных по модели словосочетания) и сохранили значение (т. е. наблюдается либо полное сохранение того же значения, либо его транспозиционный переход со сменой основы глагола). Но некоторые приведенные в ее работах примеры все же вызывают вопросы ввиду того, что значение явно расширяется: me wo samasu «пробудить глаза» ‘проснуться, пробудиться, прийти в чувство, осознать, прозреть’ – mezamashi ‘будильник; бодрость; лекарство от сонливости; сладость, которую дают ребенку при пробуждении’; в данном сложном слове сохраняются некоторые семы исходного выражения, но не качество и количество значений ФЕ-прототипа. Иными словами, это скорее косвенные отголоски семантики идиомы, позволяющие лексеме развить на их базе новые актуальные дефиниции, что говорит о недостаточно точном формулировании семантического критерия при оценке вариантов в работах Исиды. В монографии «Японские и английские идиомы с точки зрения лингвистики» Исида приводит общую характеристику фразеологизмов английского и предполагает, что ее классификация вариантов также применима к английскому языку. Неполное совпадение синтаксического функционирования, наблюдающееся в ряде случаев, особенно при несовпадении категориальной принадлежности, не рассматривается Исидой как фактор разрушения эквивалентности ФЕ и образованных от них сложных слов, что также составляет значительное отличие от концепции А.В. Кунина.
С нашей точки зрения, анализ некоторых от-фразеологических лексем как лексикализованных вариантов фразеологизмов, а не только как отфра-зеологических дериватов представляет интерес и предоставляет широкие перспективы для дальнейшего исследования.
Список литературы Продукты межуровневой отфразеологической деривации в свете вариативности
- Алефиренко, Н.Ф. Фразеология и паремио-логия / Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Семененко. - М.: Издательство «Флинта», 2009. - 344 с.
- Басова, Т.А. Фразеологическая аббревиация в японском языке / Т.А. Басова // Языки и культуры: междисциплинарные исследования. - Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, 2021. - С. 423-429.
- Виноградов, В.В. Современный русский язык. Вып. 2: Введение в грамматическое учение о слове / В.В. Виноградов. - М.: Учпедгиз, 1938. -590 с.
- Ермакова, Е.Н. Отфразеологическое словообразование в современном русском языке: причины, условия, механизм // Вестник ЧГПУ, 2012. -№ 2. - С. 206-214.
- Кубрякова, Е.С. Типы языковых значений: семантика производного слова. - М.: Наука, 1981. - 200 с.
- Кунин, А.В. Некоторые вопросы английской фразеологии //Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. - М.: ГИС, 1955. - С. 1451-1455.
- Кунин, А.В. Курс фразеологии современного английского языка / А.В. Кунин. - М.: Высшая школа, 1996. - 381 с.
- Fedulenkova, T.N. Derivational tendencies in communicative phraseological units / T.N. Fedulenkova // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. -2005. - № 1. - С. 44-54.
- Ishida, P. Japanese idioms in corpus data and phraseological dictionaries: The extraction and representation of variant forms / P. Ishida // Intercontinental Dialogue on Phraseology 3: Linguo-Cultural Research on Phraseology. - University of Bialystok Publishing House, Bialystok, 2015. - С. 79-104.
- Shibatani, M. The Languages of Japan / M. Shibatani. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - 411 c.
- ES v7 Ishida, P. [Idiom Frozenness and idiom variations]. Tsukuba Journal of Applied Linguistics, 1998, no. 5, pp. 43-56. (In Jap.)
- ES ^'JvT Ishida, P. Mff^fr blfc BMft^ffO'ffl^ [English and Japanese idiom from a linguistic standpoint]. Tokyo: Kaitakusha, 2015. 215 p. (In Jap.)
- gi^ Miyaji, Y. 'Iffl^^ia-^ff ^"ff [On the border of idioms: Collocations, proverbs, and compounds]. Nihongogaku, 1985, 4 (1), pp. 62-75. (In Jap.)