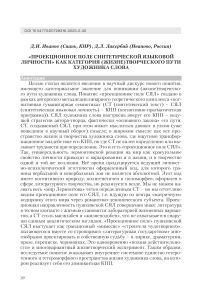"Проекционное поле синтетической языковой личности" как категория (жизне)творческого пути художника слова
Автор: Иванов Д.И., Лакербай Д.Л.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является введение в научный дискурс нового понятия, имеющего категориальное значение для понимания (жизне)творческого пути художника слова. Понятие «проекционное поле СЯЛ» создано в рамках авторского метадисциплинарного теоретического комплекса «когнитивная гуманитарная семиотика» (СТ (синтетический текст) - СЯЛ (синтетическая языковая личность) - КПП (когнитивно-прагматическая программа)). СЯЛ художника слова выстроена вокруг его КПП - ведущей стратегии автора-творца, фактически «основного закона» его пути. СТ, создаваемый СЯЛ, при этом может мыслиться двояко: в узком (уже вошедшем в научный оборот) смысле; в широком смысле как все пространство жизни и творчества художника слова, где ощутимо трансформационное воздействие его КПП, но где СТ не явлен определенно или вызывает трудности при определении. Это и есть «проекционное поле СЯЛ». Так, универсальность лермонтовской реакции на мир как краеугольное свойство личности приводит к варьированию и в жизни, и в творчестве одной и той же коллизии. Всё время продуцируется ведущий личностно-психологический эстетически оформленный код, для которого граница вербальной и невербальных зон не является абсолютной. Этот код имеет когнитивную природу, полигенетичен и полиморфен, оформлен в сфере литературного творчества, но реализуется везде. Мы не можем назвать весь «мир Лермонтова» четко определенным СТ - но мы отчетливо видим проекционное поле его СЯЛ, т.е. идущую из центра «матричную» кодировку этого мира через романтико-демонического субъекта. Проекционная направленность пушкинской СЯЛ совершенно иная: литература в тесном контакте с жизнью становится лабораторией жизненных вариантов, а СТ столь масштабен и «жизнеподобен», что не охватывается снаружи единым аналитическим взглядом. «Проекционное поле» пушкинской СЯЛ выступает как грандиозный «мимесис» «строителя чудотворного», пытающегося вместе со строящимся «литературным государством» многообразно проектировать и собственную судьбу - в лирике, драматургии, прозе, переписке, черновиках. Это одновременно «поэзия действительности» и многовариантный жизнетворческий эксперимент. Таким образом, исследуемое понятие показывает внутреннее системное единство гетерогенного и гетероморфного пространства жизни художника слова, на котором реализует себя его доминантная КПП.
Моделирование, когнитивно-прагматическая программа, когнитивно-прагматические установки, синтетический текст, синтетическая языковая личность, проекционное поле, жизнетворческий путь, пространство, текст судьбы
Короткий адрес: https://sciup.org/149143523
IDR: 149143523 | DOI: 10.54770/20729316-2023-2-30
Текст научной статьи "Проекционное поле синтетической языковой личности" как категория (жизне)творческого пути художника слова
Целью нашей статьи является введение в научный дискурс нового понятия, имеющего, на наш взгляд, категориальное значение для понимания (жизне)творческого пути художника слова. Понятие «проекционное поле СЯЛ» создано в рамках разрабатываемой авторами когнитивной гуманитарной семиотики (КГС): СТ (синтетический текст) – СЯЛ (синтетическая языковая личность) – КПП (когнитивно-прагматическая программа).
КГС – это гетерогенное пространство исследований, организованное на основе принципов метадисциплинарности и акцентирующее «антропо-логизированную» языковую реальность и генетическую взаимообусловленность гуманитарных наук [см.: Иванов, Лакербай 2021]. Гуманитарное моделирование в режиме метадисциплинарности аппроксимативно и ориентировано на уникальность культурного объекта, а не на его «универсальные» типологию и структуру (модель играет роль «организатора понимания»); акцент делается на реализации уже имеющегося потенциала универсализации и моделирования – потенциала, существующего благодаря внутреннему (генетическому, функциональному и др.) родству внешне разнородных начал в сложном (гетерогенном, гибридном) культурном объекте.
Синтетический текст (СТ) – текст (в семиотическом смысле) с четкой внешней маркировкой своей гетерогенности и процессуальности, результат смешанного семиозиса (например, рок-текст, кинотекст, «текст судьбы» и др.). Стержнем СТ является синтетическая языковая личность (СЯЛ), структурно и семантически организующая входящие в СТ субтексты как свои компоненты. Общая задача теоретического комплекса СТ / СЯЛ / КПП – одновременно модельная и «идеографическая» характеристика СТ любого типа с помощью описания его субъектного когнитивно-прагматического механизма (КПП как программы, отражающей цели и мотивировки субъекта, его самоидентификацию в процессе целенаправленной деятельности, инструменты реализации целей, ожидаемые результаты) и диапазона субъектного присутствия в тексте (собственно СЯЛ).
Основная специфика СЯЛ (по сравнению с ЯЛ в авторитетной лингвокультурологической модели Ю.Н. Караулова [см.: Караулов 2010]) в том, что она позволяет моделировать гетерогенный по зонам дискурсивности (например, вербальный и поведенческий одновременно) культурно значимый «текст субъекта в культуре» именно как индивидуальный (при этом могущий быть «усвоенным» субъектом-интерпретатором в качестве интерпретируемой модели – в искаженном, стереотипном или опорно-творческом вариантах). Это возможно потому, что основные его параметры задает КПП СЯЛ субъекта-источника – своего рода «позвоночник» СЯЛ. Можно сказать, что КПП этой ЯЛ / СЯЛ – когнитивный модельный определитель всего субъектного пространства (СЯЛ СТ), по-разному считываемый исследователем в зависимости от конкретного сектора анализа.
Какое отношение СЯЛ СТ имеет к проблеме концептуализации (жиз-не)творческого пути художника слова и что такое «проекционное поле»
СЯЛ? Синтетическая природа КПП художника как субъекта-источника (творчество и жизнь во всех ее проявлениях оказываются программно, хотя и разнообразно, взаимосвязаны, иначе полноценной самореализации таланта не происходит; этот проект определяется не только субъектом-источником, но и его взаимодействием с окружающими в творческом преодолении влияний) означает возможность распространения СЯЛ на весь его путь, традиционно обозначаемый метафорическими вариативными конструктами «биографический миф», «автобиографический миф», «текст жизни», «текст судьбы» и т.п. Но подчеркнем, что это именно возможность – со всей очевидностью реализуемая в ярких «жизнетворческих» мирах, будь то мифотворец Серебряного века или отечественный рок-поэт уровня «властителя дум» (см. развернутый пример художественной биографии рок-поэта через призму СТ-КПП-СЯЛ: [Иванов 2022]). А если такой четкой локализации по сфере деятельности, явной и открытой скон-фигурированности «материала жизни и творчества» в СТ не отмечается (как в большинстве случаев) – но при этом очевидны многообразные неслучайные связи личностно-биографического и собственно-литературного (не укладывающиеся, например, в категорию «творческого поведения» и т.п.)? На наш взгляд, в подобных случаях налицо внутреннее системное единство гетерогенного и гетероморфного пространства жизни художника слова, на котором реализует себя его доминантная КПП. Это сложное пространство, где СТ не явлен определенно или вызывает трудности при определении, мы и будем называть «проекционным полем СЯЛ».
Здесь требуется шаг назад – оценка природы и возможностей разных моделей.
Моделирование (жизне)творческого пространства
Здесь можно выделить два аспекта, обозначаемые авторитетными точками зрения. С одной стороны, вполне эвристична (как принадлежащая художнику и воспринятая исследователем) «автобиографическая легенда (миф)», т.е. «исходная сюжетная модель, получившая в сознании поэта онтологический статус» [Магомедова 2005, 69]. С другой стороны, Б. Дубин, проблематизируя статус биографического в литературе, указывает на неизбежное несоответствие личности творца и любой «биографической легенды» [см.: Дубин 2001]. Первая точка зрения фиксирует бесспорную программную направленность авторского саморазвития, вторая – столь же бесспорную неоднозначность процессов, перманентно идущих в обширной зоне контакта авторской субъектности и социокультурной реальности. Следовательно, мы не можем выбирать между ними – искомая модель должна органично совмещать оба аспекта. Как это возможно?
Если мы следуем в русле «программной направленности», то «корреляция» «легенды» и «творческого пути» объективна; если мы акцентируем несоответствие «личности» и «легенды» – корреляция становится величиной динамической. Она не дана буквально, но «планируется, мыслится наперед и считывается (с изменениями) ретроспективно как “нераздель- ность и неслиянность” целенаправленного творческого усилия, двуединого «производства» художественного текста и личности самого художника <…> существует не в неуловимом настоящем, а в рефлексии прошлого и в проекте будущего» [Иванов, Лакербай 2021, 205]. Планирование, реализация, считывание и анализ результатов, коррекция, самоидентификация творящего субъекта как органичная часть всего процесса – понятие КПП позволяет осветить сами механизмы «знания о себе», ответственные за производство текстов / личности. Это меняет всю перспективу представления разносортных данных «жизни и творчества»: «“Автобиографический миф” в этом плане предстает как вариативная реализованно-овнешненная оболочка КПП, а) располагающаяся в зоне контакта субъектности и социокультурных норм; б) получившая в этой зоне культурный статус; в) могущая быть как закрепляемой, так и разрушаемой с течением времени. Сама же КПП может совпадать … или не совпадать … с “мифом” / “легендой” по внешней форме, но имеет собственные законы развития и функционирования. “Легенда” – … “программная биография”, имеющая авторский, критико-читательский или “смешанный” генезис (“авторизованный” или “неавторизованный”). На пути воплощения от КПП (комплексного “механизма” саморазвития творческой личности) к «легенде» (метаописанию ее пути в культуре) может произойти что угодно» [Иванов, Лакербай 2021, 206]. Поясним на примерах, как происходит это воплощение и где можно говорить о СЯЛ и ее «проекционном поле» для художников слова, казалось бы, «традиционного» типа.
«Монологизм» Лермонтова
Судьба и творчество М.Ю. Лермонтова образуют едва ли не «образцовый текст» тотального «демонического» романтика. Однако связи внутри составляющих этого «текста» одновременно программны и нелинейны, так как связаны «разноформатные» вещи: мотивы поступков Печорина, основные мотивы лермонтовской поэзии и поведенческие мотивы самого Лермонтова (известного своим вызывающим поведением). Эти «раз-ноформатности» находятся в отношениях «взаимокомментирования»: опытный преподаватель-словесник не ошибется, привлекая лирику поэта для объяснения поступков Печорина, поскольку герой не просто «ав-топсихологичен», но и (несмотря на всю реалистическую объективацию персонажа и его внешнюю несхожесть с автором) явно коррелирует со всей «стилевой личностью» поэта (т.е. ЯЛ художника слова в аспекте его персонального стиля, вербальной частью которого является лингвистически понимаемый «идиостиль»). Такая формула «вечно страннического» лермонтовского духа и стиля, как «И скучно и грустно», во всех деталях раскрывается печоринским самоанализом, с его перманентной «несведен-ностью» личности, идущей путем непрерывного внутреннего конфликта, все время переворачивающего собственные утверждения. «…Было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо…» [Лермонтов 1981, 289–290]; «камень на сердце» после гибели Грушницкого, «безумная» погоня за Верой, завершившаяся беспомощными рыданиями («я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие – исчезли как дым»); вскоре герой сам себя убеждает, что зря, и спит «сном Наполеона после Ватерлоо» – а потом срывает «демоническую злость» на Вернере: «…но я остался холоден, как камень – и он вышел. Вот люди! все они таковы…» [Лермонтов 1981, 300–302]. Вариативное (камень / железо) наполнение инвариантного (универсального) мотива «холода» как исходной демонической реакции на «весь мир» и «всех людей» рождает инвариантную неисцелимую пустоту и «скуку» («Ну что? в отставке?.. как?.. что поделывали?.. – Скучал! – отвечал Печорин, улыбаясь» [Лермонтов 1981, 222]).
Универсальность реакции на мир как краеугольное свойство лермонтовской личности приводит к варьированию и в жизни, и в творчестве одной и той же коллизии, суть которой может быть изложена и сторонним персонажем – например, Верой, очарованной «скучающим демоном» Печориным: «…в твоей природе есть <…> что-то гордое и таинственное <…> никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно <…> и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном» [Лермонтов 1981, 300]. Судя хотя бы по весьма вызывающему поведению Лермонтова в истории с Мартыновым, трудно вообще найти здесь что-то удивительное: поэт ничего себе не «напророчил» – просто так тотально работает его личностная КПП, моделирующая в том числе и дуэльно-фаталистические варианты универсальной коллизии, что, разумеется, совершенно не отменяет внутреннюю конфликтность этого «романтико-демонического монологизма». (Несводимость его к самому себе даже в поздней «самоаналитической» версии, устремленность к Иному в лирике («Когда волнуется желтеющая нива…», «Завещание», «Выхожу один я на дорогу…» и др.) и ощутимую дистанцированность от совершенно, казалось бы, «автопсихологического» Печорина). Единство «текста судьбы» Лермонтова обеспечивается СЯЛ художника-жизнетворца; при этом литературное творчество (и соответственно ЯЛ художественных текстов) очевидным образом (именно там всё моделируется, проверяется и проговаривается) играет роль идейно-информационного центра, матрицы мироотношения и поведения, а в повседневную жизнь, казалось бы, идущую по своим законам, проецируется ведущий личностно-психологический эстетически оформленный код, для которого граница вербальной и невербальных зон не является абсолютной. Этот код имеет когнитивную природу, полигенетичен и полиморфен, оформлен в сфере литературного творчества, но реализуется везде. Мы не можем назвать весь «мир Лермонтова» четко определенным СТ – но мы совершенно отчетливо видим проекционное поле его СЯЛ, т.е. идущую из центра и весьма однозначную «матричную» кодировку, направленно трансформирующую жизненный путь Лермонтова и в итоге приводящую его к гибели, как и его «многоли- кого» центрального героя. Иными словами, в «проекционном поле» действие СЯЛ может быть не столь ясно видимым, как в случае «явного СТ жизнетворчества», но все равно носит конституирующий характер.
«Неуловимость» Пушкина
А теперь обратимся к тому, чьим общепризнанным «антиподом» Лермонтов является. А.С. Пушкин – воплощение «художника per se», вдохновенно реализующее многообразное «программное несовпадение» с самим собой. Пушкин не варьирует, как Лермонтов, одну и ту же коллизию, но работает в поле динамично соотносящихся мотивов (мотивов литературных и мотивов жизненно-психологических), поэтому и «легенды» многовариантны. Как формулирует Ю.М. Лотман, творческое развитие Пушкина было одновременно стремительным и осознанным: «...сама биография Пушкина была в определенной мере художественным созданием, упорной реализацией творческого плана. <…> иногда лирика становилась лабораторией поэмы, дружеские письма – школой прозы. В определенные моменты лирика подготовляла прозу, в другие – проза становилась лабораторией лирики, драма вырабатывала взгляд на историю. В известном смысле все творчество Пушкина – единое многожанровое произведение, сюжетом которого является его творческая и человеческая судьба» [Лотман 1989, 321–322]. Благодаря выдающимся достижениям отечественного пушкиноведения мы знаем, что, при всей мощи пушкинской поэзии, прозы и драматургии, без дотошно препарированной биографии и тщательного многоуровневого (включающего визуальную составляющую) анализа рукописей, черновиков, писем «сверхзамысел» и эволюция Пушкинского текста не могут быть прочитаны адекватно. И еще Р.О. Якобсон на примере образа «ожившей статуи» в творчестве Пушкина блестяще показал, как драматургически развертывается внутренняя связность «строки и жизни», создавая авторскую мифопоэти-ку, явно или скрыто актуальную для всего «жизнетворческого» пространства гения: последовательные версии пушкинского «мифа о губительной статуе», где реализуется «злая магия» оживших скульптур (одолевающая и стихийно-свободного Дон Гуана, и массовидно-стертого Евгения, мечтающего жить «как все»), сложно коррелируют с житейскими обстоятельствами и психологическим состоянием автора: «Если сопоставить лирические воспоминания Дон Гуана о мертвой Инезе с могильной лирикой Пушкина и если связать тоску поэта по невесте, переплетающуюся со страстными поэтическими обращениями к неназванной возлюбленной (или возлюбленным), с противоположностью Доны Анны и Лауры, тогда все неразумное и противоестественное, что стояло между Пушкиным и его нареченной <…> находит значимый эквивалент в мощи каменного командора» [Якобсон 1987, 160]. Якобсон проследил, как чувство неизбежности перемен, страх, тоска, надежды, суеверия, житейские планы и поступки, с одной стороны, трансформируются в художественную символику, а с другой – сами связаны с ее языком («нераздельность / неслиянность») внутри, говоря языком Лотмана, «многожанрового произведения» пушкинской судьбы.
Однако «пушкинский метасюжет» подчеркнуто антимонологичен, и в этом смысле якобсоновскую версию (как и любую другую) можно вполне счесть красивым «филологическим романом». Пушкинский текст переливается множеством красок. Так, с одной стороны, мы знаем, что поэт не брал прямо в литературу «житейскую муть», и это хрестоматийно зафиксировал хорошо знавший его Н.В. Гоголь: «Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня – точно какой-то храм. <…> не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем все там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо» [Гоголь 1952, 382–383]. А с другой – все было материалом, идущим в ход и буквально, как переданная Онегину светская «опытность» автора или героям «Выстрела» – дуэльная история 1823 года (Пушкин спокойно ест спелые вишни, выплевывая косточки в ожидании выстрела противника).
Для того чтобы смоделировать характер Пушкинского текста, нам нужно идти не от «легенд» (они производны и спорят одна с другой): необходимо соотнести закон этого «художественного мышления» (КПП) с его масштабом. Если «монологист» Лермонтов реализует свой огромный масштаб исключительно через романтического (по генезису) субъекта, его вселенские притязания и его демоническую катастрофу, то еще более живой и страстный «антимонологист» Пушкин уже в 1823 году дает дистанцированную формулу («Мой демон»), показывая, что прекрасно понимает суть романтического демонизма, но не может этим ограничиться. И далее напряженно и вдохновенно работает как целое «литературное государство», законодатель концептуальных решений, поведенческих образцов, жанров, стилей, языка и пр. Он сам «строитель чудотворный», т.е. тот, чьим законом стала не «портретная», а «пейзажная» и даже «универсум-ная» самореализация, внутри которой переживает свои трансформации субъект творчества. Иными словами, проекционная направленность СЯЛ совершенно иная: литература в тесном контакте с жизнью становится лабораторией жизненных вариантов (отсюда исследовательский интерес к своей и общей истории, аналитика законов развертывания жизни общей и частной, «открытые» в тайну бытия «лирические итоги» («Элегия» 1830 г., «Осень» и др.) – и множество неоконченных текстов).
При этом сама тема судьбы – центральная для субъекта пушкинского творчества, но действует тот же закон удивительного разнообразия решений. Общеизвестна суеверность «биографического Пушкина» – и эта россыпь «месяца с левой стороны», талисманов, зайцев, гадалок и пр. пульсирует в его текстах и письмах как единая когнитивно-психическая симптоматика человека-художника на рандеву с Бытием (то самое «я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу»), переливающаяся из текста в жизнь и из жизни в текст. А «примерить» на себя он способен любой момент своего мира – как точно отмечал В.А. Грехнев на примере элегии [Грехнев 1994, 124–125], Пушкин реформировал жанровую топику по силовым линиям собственной отрефлексированной судьбы поэта, по сути, заново моделируя жанр «сквозь» самого себя (что уж говорить о персонажах!). Для подобного моделирования необходимо, чтобы и само это творческое
«я» (по крайней мере, на этапе творческой зрелости) представало живому человеку-творцу в модельном (программном) виде. Оригинальная КПП и является такой когнитивно-прагматической «моделью» субъекта творчества, обусловливая (стратегически) и движение судьбы, и движение творческое – а СТ столь масштабен и «жизнеподобен», что не охватывается снаружи единым аналитическим взглядом: «проекционное поле» СЯЛ выступает как грандиозный «мимесис» «строителя чудотворного», пытающегося вместе со строящимся «литературным государством» многообразно проектировать и собственную судьбу – в лирике, драматургии, прозе, переписке, черновиках. Приведем лишь два кратких примера из «лирической лаборатории».
Монументальная «Осень» (1833) концентрирует в себе развернутую личную мифологию поэта в неразделимости человека и творчества [см.: Иванов, Лакербай 2019, 255–286]. Стихотворение предстает воплощением программного когнитивно-прагматического опыта ЯЛ художника, целостность которой выстраивает единая концептуальная матрица (КПП), сформированная как система когнитивно-прагматических установок (КПУ). Важны прежде всего 3 стиховые суперсистемы: оригинальная стиховая структура – «зеркальное» чередование октав и шестистопный ямб с пир-рихиями и цезурой – программный инструмент (реализация «инструментальной» КПУ), позволяющий автору свободно играть элегической традицией и включать в текст разнородные элементы; оценочно-результативная КПУ «самоидентификационного» профиля (диалектика взаимопроникновения человека и природы, конечного и бесконечного задана системой последовательных самоидентификационных инкарнаций (СИ) «дворянин-помещик» – «обычный земной человек» – «философ» – «поэт» – «Поэт (Творец)»); снятию разделенности мира и человека в итоговой СИ «Творец» соответствует оценочно-результативная КПУ принципа изображения мира (снятие разделенности поэтического / непоэтического через «сотворчество» художника с бытием).
Уникальная значимость этого текста в том, что в нем буквально «расписан» пушкинский неромантический («антибайронический») путь возвышения от земного человека до Поэта (Творца). Нет размежевания и конфликта с миром «соседей» («сосед мой поспешает…»), но «на выходе» мы все равно получаем художника-гения. При анализе пушкинской «поэзии действительности» нельзя забывать – эстетика «гения» никуда не делась (и в других программных текстах – «Поэту», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» – резко очерчена); кардинально изменилось ее обоснование.
Следом за образом субъекта речи – дворянина-помещика (соседа своего соседа) возникает другой – человека, романтично и чувственно влюбленного в зимнюю красоту, который быстро становится образом уже субъекта философствующего (т.е. стремящегося подняться над «эмпирикой»); с 5-й строфы мы слышим открытый голос субъекта-поэта (подчеркнутая элегичность интонации, прямое обращение к читателю от лица поэта). Данная СИ постепенно вбирает в себя все предыдущие – «дворянина в деревне», просто «земного» человека, философа, угадывающего смысл происходящего, – для того, чтобы ближе к финалу текста соединить частные (по отношению к Поэзии, устремленной в бесконечность) СИ в рамках всеобъемлющей. Поэтому герой-поэт одновременно вовлечен в обыденность, «жизни полн» («Здоровью моему полезен русский холод» «Легко и радостно играет в сердце кровь, желания кипят» [Пушкин 1977, 248]) – и возвышен над ней, воспринимает ее как естественную философскую основу для следующего шага. Осуществить свое высшее предназначение Поэт может, только уподобившись мирозданию в его вечно творящемся единстве жизни и смерти (образ «чахоточной девы»), поэтому переход от СИ «Поэт» непосредственно к творчеству происходит через диалектическое «снятие» самой разделенности мира и человека (должны быть отменены все «конечные» ограничения и ипостаси – но так, чтобы всё их смысловое содержание осталось с Поэтом). Внутри СИ «Поэт», по сути, две фазы: первая – «поэт» в традиционном смысле, вторая – проходящий через «забвение мира» (т.е. его интериоризацию) и обретающий новую природу Творец («Поэт» с прописной буквы). Это своеобразная инициация от «И забываю мир» до «Минута – и стихи свободно потекут» [Пушкин 1977, 248].
Так через СИ-переходы лирический герой / субъект становится, не теряя индивидуальности, «человеком вообще» (т.е. неповторимо-личной «версией» общего бытия), пушкинской вариацией мифа о человеке во временном круговороте природы – человеке, постепенно возвышающемся до Поэта.
А «Пора, мой друг, пора» (1834), на уровне «легенд» воспринимаемое, например, как желание «сбежать в деревню» от проблем и камер-юнкер-ства, в свете характерного для Пушкина 1830-х гг. нового понимания свободы (духовное в противовес политическому), содержит, кажется, и вовсе немыслимый вариант. Как отмечает С.М. Лукьянова, две небольшие части стихотворения словно противоречат одна другой (после слов о неизбежности смерти, не считающейся с человеческими планами, Пушкин тут же «строит планы»): «Противоречие снимается, если представить эти планы как “посмертные”. Жизнелюбивый Пушкин, осознавший, что “на свете счастья нет” … задумывается о иной, вневременной жизни. Переход в этот мир перестает мыслиться как трагедия, обрыв сюжета, а трансформируется в христианское понимание смерти как освобождения, перехода в “обитель дальную трудов и чистых нег”. <…> Под “чистыми негами”, вполне возможно, подразумеваются не только творческие труды, но и молитвенное уединение. Дух, сердце, сам духовный образ автора и являются, согласно этой гипотезе, подлинным адресатом стихотворения…» [Лукьянова 2022, 52].
Вот в таком диапазоне – от «страстного, земного» (закончившегося, как известно, «нелогичным» для «нового Пушкина» смертельным поединком) до «сомасштабного мирозданию» Творца или «проекта побега» «усталого раба» куда-то «за пределы» – развертывается «проекционное поле» пушкинской СЯЛ. Это одновременно «поэзия действительности» и многовариантный жизнетворческий эксперимент, куда более поразительный, нежели позднейшие попытки многих модернистов.
Заключение
СЯЛ художника слова выстроена вокруг его КПП – ведущей стратегии автора-творца, фактически «основного закона» его пути. КПП определяет закономерности СЯЛ и соответственно СТ. При этом СТ, создаваемый СЯЛ, может мыслиться двояко: в узком (уже вошедшем в научный оборот, более традиционном) смысле; в широком смысле как все пространство жизни и творчества художника слова, где ощутимо трансформационное воздействие его КПП. Именно это пространство мы называем «проекционным полем СЯЛ». Данное понятие позволяет заново структурировать представления о связи личностно-биографического пласта и литературного творчества и в этом качестве приобретает категориальное значение, так как показывает внутреннее системное единство гетерогенного и гетероморфного пространства жизни художника слова, на котором реализует себя его доминантная КПП.
Список литературы "Проекционное поле синтетической языковой личности" как категория (жизне)творческого пути художника слова
- Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: в 14 т. Т. 8. Статьи. [М.]: Изд-во АН СССР, 1952. С. 213–418.
- Грехнев В.А. Мир пушкинской лирики. Нижний Новгород: Изд-во «Нижний Новгород», 1994. 462 с.
- Дубин Б.В. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии соврем. Культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 412 с.
- Иванов Д.И. Крест и рок: «синтетический текст» Константина Кинчева. Москва: Ларго, 2022. 494 с.
- Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. Между «сциллами» и «харибдами», или Попытка теории в эпоху исследовательских практик // Критика и семиотика. 2021. № 1. С. 193–219.
- Иванов Д.И., Лакербай Д.Л. «Осень» А.С. Пушкина как программный когнитивно-прагматический опыт // Reosiahag. 2019. № 19 (Август). С. 255–286.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 264 с.
- Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. Проза. Письма. Л.: Наука, 1981. 591 c.
- Лотман Ю.М. Пушкин // История всемирной литературы: в 9 т. Т. 6. М.: Наука, 1989. С. 321–338.
- Лукьянова С.М. «Каменноостровский цикл» А.С. Пушкина: от картины к иконе // Феномен «последнего стихотворения»: теория и практика исследования. Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2022. С. 47–57.
- Магомедова Д.М. «Я один… и разбитое зеркало…»: литературные маски Сергея Есенина (статья первая) // Новый филологический вестник. 2005. № 1. С. 66–77.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 3. Стихотворения, 1827–1836. Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1977. 495 с.
- Якобсон Р.О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике: Переводы. М.: Прогресс, 1987. С. 145–180.