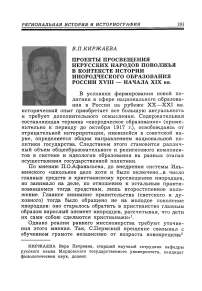Проекты просвещения нерусских народов Поволжья в контексте истории инородческого образования России XVIII - начала XIX вв
Автор: Киржаева Вера Петровна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональная история и историография
Статья в выпуске: 2 (47), 2004 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные положения проектов образования нерусских народов Поволжья.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222883
IDR: 147222883
Текст научной статьи Проекты просвещения нерусских народов Поволжья в контексте истории инородческого образования России XVIII - начала XIX вв
В условиях формирования новой политики в сфере национального образования в России на рубеже XX—XXI вв.
исторический опыт приобретает все большую актуальность и требует дополнительного осмысления. Содержательная составляющая термина «инородческое образование» (применительно к периоду до октября 1917 г.), освобождаясь от отрицательной интерпретации, имевшейся в советской науке, определяется общим направлением национальной политики государства. Следствием этого становится различный объем общеобразовательного и религиозного компонентов в системе и идеологии образования на разных этапах осуществления государственной политики.
По мнению П.О.Афанасьева, до внедрения системы Иль-минского «школьное дело хотя и было включено...в число главных средств к христианскому просвещению инородцев, но занимало на деле, по отношению к остальным практиковавшимся тогда средствам, лишь второстепенное положение. Главное внимание правительства (светского и духовного) тогда было обращено не на молодое поколение инородцев: оно старалось обратить в христианство главным образом взрослый элемент инородцев, рассчитывая, что дети их сами собою сделаются христианами»1.
Однако реалии раннего миссионерства требуют уточнения этого мнения. Так, С.Пермский крещение связывал с обучением грамоте независимо от возраста новокрещена2
КИРЖАЕВА Вера Петровна, старший научный сотрудник кафедры русского языка Мордовского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент.
Первый казанский архиепископ Гурий организовал при учрежденных монастырях школы для детей христиан, в числе которых были и дети новокрещеных татар, черемис и чуваш. Языком обучения был их родной язык, поскольку целью школьного обучения определялось не только первоначальное образование, но и подготовка к будущей миссионерской деятельности среди единоплеменников. Особая значимость миссионерской направленности школьного обучения подчеркивалась и Иваном Грозным в ответе на сообщение Гурия3 Это же направление государственной политики отражено в высочайше утвержденном докладе Синода «О правилах обращения кочующих в Архангельской губернии самоядов в христианскую веру» (1824 г.)4. Наряду с организацией церковной жизни, священник должен организовать «обучение грамоте самоядов, которые начнут оказывать большую охоту учиться, а особливо их детей» (выделено нами. — В.К.\
В начале XVIII в. интерес государства к инородческому образованию артикулирован так четко, что, по оценке М.Владимирского-Буданова, «инородцы были счастливее господствующей народности; образование инородцев озабочивало государство в то время, когда оно совершенно оставило все попытки к распространению элементарного образования среди русского населения»5. Причины подобного внимания кроются не в сфере образования, а в христианском просвещении иноверцев. Определяя миссионерскую и новокрещенскую школы как два возможных пути к реализации этой цели, М.Владимирский-Буданов разграничивает эти понятия: если первая «приготовляет детей иноверцев к восприятию христианства», то во второй «дети принявших христианство, образовываясь при школах, усвоива-ют внутреннюю силу его»6. Правительство преимущественно шло вторым путем. Но, по мнению исследователя, к Петровской эпохе следует отнести и формирование инородческой школы. Разрушив монополию церкви на инородческое образование, государство стало направлять его на реализацию новой цели — распространение «русской цивилизации среди полудиких племен, подчиненных русскому государству, т.е. к распространению между ними русского языка и русской письменности. Это считалось лучшим средством ассимиляции племен нерусских»7
Образование как средство ассимиляции рассматривалось в истории образования лишь применительно к XIX в., однако, по крайней мере в двух проектах Петровской эпохи, правительству были указаны обе цели инородческого образования. Так, И.Т.Посошков видел в просвещении инородцев средство социализации инородческого крестьянства, сознательного включения его в жизнедеятельность государства8 При этом главная задача просвещения инородцев (христианизация) автоматически должна была ставить их в привилегированное положение в сравнении с некрещеными9.
Самым ранним региональным проектом инородческого образования, вероятно, является представленный В.Симановым в 1723 г. в Св. Синод проект просвещения нижегородской мордвы. Опубликованные только в 1868 г., сам проект и материалы по его рассмотрению в Синоде10 не получили за редким исключением широкого научного освещения ни в XIX, ни в XX вв.11 Проект Симанова состоит из 13 пунктов, охватывающих все стороны организации и деятельности мордовских школ, цель которых состояла в подготовке к крещению язычников и укреплении в вере крещеных12 Это вступает в противоречие с официальным признанием мордвы в основном уже крещеной к этому времени (первые письменные свидетельства о крещении мордвы относятся еще к XVI в.). Симанов, вероятно лучше представляющий реальный уровень христианизации мордвы, говорит о необходимости миссионерских и новокрещенских школ. Однако, предлагая обучать детей мордвы, уже знающих русский язык, и штрафовать тех родителей, которые попытаются скрывать это знание, Симанов, по мнению Владимирского-Буданова, «совершенно упускает из виду другое, государственное, значение инородческого образования» — распространение русского языка13.
Дальнейшая судьба Симановского проекта неизвестна, однако очевидно, что высказывавшиеся им предложения востребованы не были. В то же время потребность в создании системы крестьянского, в том числе и инородческого образования, продолжала ощущаться все острее. Так, в материалах Уложенной комиссии, созванной Екатериной II в 1767 г. для обновления свода законов, содержалось несколько проектов крестьянского, в том числе и инородческого, образования18 Особый интерес представляет проект
296 В.П .Киржаева депутата от киевского дворянства В.Т.Золотницкого, предлагавшего осуществлять обучение инородческих детей на принципах обязательности, бесплатности (при взимании целевого налога с пользующегося начальными школами населения), использования на первоначальном этапе обучения родного языка учащихся, отказа от конфессиональной направленности обучения иноверческих детей, привлечения в качестве учителей представителей того же этноса, обязательного освоения учениками русского языка19.
В практике поволжских губерний, население которых характеризовалось полиэтничностью и поликонфессиональ-ностью, первоначальное образование инородцев также связано с его христианизацией. Так, во второй половине XVIII в. был реализован проект, опиравшийся на систему новокрещенских школ и соответствовавший стремлению правительства к массовой христианизации инородцев Казанского края. В 1734 г. архиепископ И.Рогалевский представил в Св. Синод предложения об учреждении в Казанской епархии четырех школ для обучения детей инородцев вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Они были высочайше утверждены Указом от 26 февраля 1735 г., которым разрешалось открытие школ в Казани, Елабуге, Цивильске и Царевококшайске с контингентом по 30 чел. в каждой. Частичная реализация этого проекта началась 5 лет спустя, когда 11 сентября 1740 г. была учреждена специальная контора новокрещенских дел и именно ей предписывалось открыть школы в местах, названных указом 1735 г., под патронажем управителя новокрещенской конторы Д.Сеченова и Казанского епископа Луки (Канаше-вича). Указ 1740 г. определял уже иной состав обучаемых (только новокрещеные дети) и подробную структуру обучения20. Учебный процесс в школах начался с января 1750 г., но Св. Синод остался недоволен подбором учителей. Все назначенные на эти должности церковнослужители не владели родным языком учеников, знание которого было предписано Синодом.
Казалось, организованные школы могли бы стать основой формирования целостной системы инородческого образования, включавшую и школы первичного уровня — сельские. Однако по инициативе епископа происходит централизация школ и их объединение в единственной Казанской новокрещенской школе. Причины, побудившие Л.Канашеви-ча к этому шагу неизвестны21 Но результаты его вполне очевидны: после перемещения епископа в Белгород школа пришла в упадок. С закрытием в 1764 г. новокрещенской конторы Синод вместе с Сенатом в представлении императрице Екатерине II ходатайствует о закрытии и новокрещенских школ, объясняя необходимость этого двумя причинами: неспособностью инородческих детей к обучению и отсутствием для выпускников вакансий среди церковнослужителей. Несмотря на повеление императрицы «школ не отрешать», отсутствие финансирования и учебно-воспитательной базы привело к прекращению их деятельности в 1797 г.22
Реформы эпохи Александра I затронули и инородческое образование, которое должно было осуществляться через систему сельских приходских училищ с опорой на родной язык учеников и широкое использование в качестве учебного и дидактического материала переводов вероучительных книг, что было четко сформулировано в представлении Св. Синода от 12 сентября 1804 г.23 Таким образом, можно сделать вывод, что теоретические основы системы инородческого образования были сформулированы уже во второй половине XVIII — в начале XIX вв., но их реализации не последовало, поскольку государственного финансирования не предполагалось и все расходы по устройству и содержанию школ должны были нести помещики и крестьянские общества, не готовые к этому.
Однако светская и церковная общественность продолжали видеть в школе единственно действенное средство религиозно-нравственного просвещения инородцев, что особенно ярко проявилось в деятельности Российского библейского общества (РБО), учрежденного в 1813 г. и ставившего целью «снабжать всякое христианское вероисповедание Библиями»24. Созидательные последствия библейской работы очевидны: к 1823 г. РБО распространило на 41 языке 184 851 экземпляр Библии, 315 928 — Евангелия, 204 052 — отдельных частей Библии. Эти тексты классифицируются по трем группам: книги, купленные за границей или полученные в'дар; перепечатанные РБО с уже существовавших оригиналов; переводы, подготовленные по инициативе общества и изданные им на русском, калмыц- ком, карельском, монгольском, литовско-самогитском, турецком, армянском, татарском, татарско-турецком, черемисском, чувашском и мордовских языках. Естественно, особое значение имеет создание третьей группы текстов, требующей серьезной организаторской и научной работы. Однако в оценке результатов переводческой деятельности РБО на языки народов Поволжья закрепилось мнение: никакого влияния на просвещение они не имели. Проведенный нами анализ переписки «Об открытии училища в селе Четай для обучения чувашских детей чтению и письму на российском языке» между министром духовных дел и народного просвещения князем А.Н.Голицыным и попечителем Казанского учебного округа М.Л.Магницким25 позволяет пересмотреть эту точку зрения.
Фигура М.Л.Магницкого и его место в истории русского консерватизма в целом, и истории просвещения в частности, только в самые последние годы начинает анализироваться. По справедливому замечанию А.Ю.Минакова, «обращение исследователя к анализу совокупности источников, освещающих деятельность русских консерваторов, в том числе и Магницкого, существенно корректирует историографические мифы»26, в том числе и относительно проекта реформы университетского образования, изложенного Магницким в инструкции директору Казанского университета от 17 января 1820 г. и содержащего главную *дею — пересоздать на религиозных началах русские университеты. На осуществление этого плана была и направлена вся практическая деятельность Магницкого в должности попечителя Казанского учебного округа.
Обнаруженные нами материалы позволяют говорить о распространении проекта народного просвещения Магницкого и на инородцев Поволжья. Толчком к трехлетней переписке стало обращение к Голицыну И июля 1819 г. надворного советника И.Попова из Курмышского уезда Симбирской губернии с просьбой «о дозволении открыть в с. Четай училище для обучения чувашских детей чтению и письму на российском языке»27 Основанием для просьбы стала деятельность сельского священника Н.Базилевского. Приняв участие в переводах Нового Завета на чувашский язык, организованных РБО, он убедился в том, что издание этих переводов не принесет ожидаемого результата без первоначального образования детей чуваш-прихожан. Н.Базилевский способствовал вступлению своих прихожан в Курмышское Библейское товарищество, члены которого и «другие любители слова Божия собрали на постройку училищного дома для чуваш более 400 руб.»28 Никакой просьбы об оказании финансовой поддержки на строительство или оплату труда учителя не высказывалось, ходатайство касалось лишь официального разрешения на открытие училища и утверждения программы обучения. Голицын, безусловно, поддержал это начинание, видя в нем продолжение дела РБО в христианском воспитании инородцев. Он лишь ограничил цели училища для чувашей формированием умения читать, «полагая единственною для них целию чтение Священного Писания»29, а не их общее просвещение, и предложил в перспективе метод взаимного обучения.
Магницкий рассматривал поставленную перед ним проблему шире, связывая ее с этноконфессиональной ситуацией Казанского учебного округа и резко критиковал принципы, на основе которых проводилась христианизация народов30 Пожалуй, ни один из современников Магницкого не противопоставлял столь резко политические, государственные, и духовные цели христианизации: «Непросвещенное сельское духовенство соединилось с исправниками и из святого дела евангельской проповеди произошли величайшие притеснения, лихоимства и удаления от христианства»31
Магницкий разработал проект, который опирался на опыт новокрещенских школ, но вводился в общий контекст его собственной программы народного воспитания. Он видел главную причину исчезновения этих школ в отсутствии государственной заинтересованности в их функционировании32. Приоритет государственного, централизованного управления реформой акцентирован и в указании функции директора университета как исполнительской, и в разработанной ступенчатой системе училищ. На месте бывших в Казани и Астрахани новокрещенских школ предполагалось открыть центральные училища, с которыми были бы связаны местные училища, подобные Четайскому. Предусматривалось государственное финансирование системы.
Проект Магницкого реализован не был, но его актуальность еще раз была доказана Министру духовных дел и народного просвещения, когда в ноябре 1820 г. к нему обратился священник А.Альбинский. Последний участвовал в работе РБО по переводу Нового Завета на марийский язык. Общение с прихожанами показало необходимость обучить их чтению для того, чтобы изданные РБО переводы выполняли возложенную на них функцию духовного просвещения инородцев33. В это же время Голицын получает письмо астраханского старшего юртового Магтасип-Казы-Ходжи-Ахунджан-Ниязова «Об учреждении в Астрахани училищ для обучения татар российской грамоте»34, также подтверждающее необходимость реформирования инородческого просвещения.
Магницкий возобновляет попытку представить на рассмотрение министра свой проект реформы народного воспитания с учетом вновь полученных сведений35 Можно предположить, что Голицын, говоря о признании «необходимым по сему предмету ожидать общих об утверждении училищ взаимного обучения правил и постановлений, без которых ныне невозможно предпринимать ничего особенного в частности»36, — фактически предлагал Магницкому создать вариант законодательства о просвещении народов России как для русских, так и для инородцев. Однако ни идеологические, ни социокультурные реалии начала 20-х гг. XIX в. не позволили Голицыну и Магницкому довести реализацию этого замысла до конца. Только в принципиально новых условиях реформируемой России эпохи Александра II создание подобной системы смогли осуществить принятием Правил о мерах к образованию населяющих Россию инородцев министр народного просвещения и обер-прокурор Св. Синода граф Д.А.Толстой и выдающийся просветитель Поволжья, миссионер и ученый-востоковед Н.И.Ильминский.
Список литературы Проекты просвещения нерусских народов Поволжья в контексте истории инородческого образования России XVIII - начала XIX вв
- Афанасьев П.О. Н.И. Ильминский и его система школьного просвещения инородцев Казанского края. Казань, 1914. С. 233-234.
- Повесть о Стефане, епископе Пермском / Древнерусские предания (XI-XVI вв). М., С. 171.
- Харлампович К.В. Казанские новокрещенские школы. (К истории христианизации инородцев Казанской епархии в XVIII в.). Б.м., б.г. С. 3.
- Полное собрание законов Российской империи. T. XXXIX. 1824. СПб., 1830. С. 471.
- Владимирский-Буданов М. Государство и народное образование в России XVIII века. Ч. 1. Ярославль, 1874. С. 60. О просвещении нерусских народов Поволжья в XVIII - начале XIX вв.