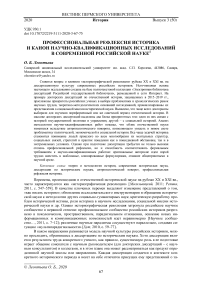Профессиональная рефлексия историка и канон научно-квалификационных исследований в современной российской науке
Автор: Леонтьева О.Б.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Статья в выпуске: 3 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
Ставится вопрос о влиянии «историографической революции» рубежа XX и XXI вв. на диссертационную культуру современных российских историков. Источниковая основа настоящего исследования создана на базе полнотекстовой коллекции «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки», размещенной в сети Интернет. На примере докторских диссертаций по отечественной истории, защищенных в 2015-2019 гг., прослежены приоритеты российских ученых в выборе проблематики и хронологических рамок научных трудов, теоретико-методологических оснований исследований, проанализированы их представления о социальной миссии исторической науки. Выявлено, что чаще всего докторанты выбирали для изучения пореформенный или же советский период отечественной истории. В массиве докторских диссертаций выделены два блока приоритетных тем: один из них связан с историей государственной политики и управления, другой - с социальной историей. Анализ методологии научно-квалификационных работ показал, что облик отечественной науки изменился вследствие антропологического поворота, позволяющего увидеть в новом свете проблематику политической, экономической и социальной истории. Все чаще задачей историка становится понимание людей прошлого во всем многообразии их ментальных структур, социальных связей, стратегий и практик поведения как в повседневной обстановке, так и в экстремальных условиях. Однако при подготовке диссертации требуется не только высокая степень профессиональной рефлексии, но и способность соответствовать формальным требованиям к научно-квалификационным работам: оригинальные авторские идеи порой трудно вместить в шаблонные, клишированные формулировки, ставшие общепринятыми в научной среде.
Теория и методология истории, современная историческая наука, диссертации по историческим наукам, антропологический поворот, профессиональная рефлексия историка
Короткий адрес: https://sciup.org/147246323
IDR: 147246323 | УДК: 930.1 | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-3-67-75
Текст научной статьи Профессиональная рефлексия историка и канон научно-квалификационных исследований в современной российской науке
Перемены, произошедшие в отечественной исторической науке на рубеже XX и XXI вв., часто характеризуются как «историографическая революция» [ Могильницкий, 2011; Репина, 2011, c. 547–559]. В качестве ключевых перемен выделяют изменение представлений о том, «как писать историю»; обновление исследовательского инструментария и обращение исторической науки к методологии других социально-гуманитарных наук; критическую разработку проблем исторической истины, роли историка в научном исследовании, социальной миссии исторической науки и др. Однако историографическая революция затронула российское научное сообщество в неравной степени: профессиональное сообщество российских историков разрознено в поколенческом, пространственном, парадигмальном отношении, освоение новых информационных и коммуникационных возможностей идет неравномерно [Научное сообщество…, 2011, с. 7–12]; различные научные парадигмы сосуществуют параллельно, создавая ситуацию «мультипарадигмальности» [ Хут, 2010, с. 59–77].
В каком направлении развивается модель научной культуры российских историков, можно проследить, обратившись к диссертациям по историческим наукам. Хотя диссертация является результатом труда конкретного ученого, как правило, существенную роль в ее подготовке играет общение соискателя с научным руководителем (для докторских диссертаций – с научным консультантом) и коллегами, и в этом плане она может рассматриваться как продукт определенной научной школы или направления. Каждая диссертация создается в контексте конкретного исторического периода и несет на себе отпечаток присущих ему представлений о за-
дачах науки и о стандартах, которым должна соответствовать работа. Поэтому диссертационное исследование представляет собой феномен научной культуры, по которому можно судить не только о квалификации соискателя, но и о «представлениях о качестве, или профессиональном уровне, выполнения диссертационного исследования», характерных для научного сообщества [ Алеврас, Гришина, 2011, с. 222, 231].
На примере диссертаций можно проследить, как меняются приоритеты в выборе проблематики и хронологических рамок научных трудов, теоретико-методологические основания исследований, представления о социальной миссии исторической науки и самого историка, а также эпистемологические основания и стандарты научности в диссертационных исследованиях. Такие исследования уже проводились на материале диссертаций, защищенных не позднее 2015 г. [Научное сообщество…, 2011; Историки в поисках…, 2019]. В настоящей статье эта задача ставится применительно к диссертациям, защищенным за последние пять лет – в 2015–2019 гг.
Источниковая основа настоящего исследования создана на базе полнотекстовой коллекции «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки» (далее – ЭБД РГБ), размещенной в сети Интернет по адресу Для изучения выбраны диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. Этот выбор обусловлен тем, что их авторами являются ученые, доказавшие свою научную квалификацию и стремящиеся подняться на следующую ступень научной иерархии. Можно предположить, что такие диссертации должны отличаться более высоким уровнем профессиональной рефлексии от диссертаций на соискание кандидатской степени.
Количество докторских диссертаций и их авторефератов по специальности «Отечественная история», представленных в ЭБД РГБ за последние пять лет, таково: 2015 г. – 53 диссертации, 2016 г. – 21, 2017 г. – 10, 2018 г. – 8, 2019 г. – 3 автореферата диссертаций (формирование базы данных за этот год не завершено), что в сумме составляет 95 работ.
Современная диссертационная культура в России определяется правовыми нормами и стандартами, многие из которых приняты относительно недавно. Прежде всего это «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденное постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с последующими изменениями). В документе подчеркивается практическое значение диссертационных исследований: в пункте 9 «Положения…» указано, что в диссертации на соискание ученой степени доктора наук должны быть «разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны», тогда как кандидатская диссертация должна либо иметь «существенное значение для развития страны», либо содержать «решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний» (Постановление Правительства…, 2013).
Структуру диссертационного исследования регулирует ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации: Структура и правила оформления». Согласно п. 5.3 «Введение» к диссертации должно включать следующие рубрики: актуальность темы исследования; степень ее разработанности; цели и задачи; научная новизна; теоретическая и практическая значимость работы; методология и методы исследования; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и апробация результатов (ГОСТ Р 7.0.11–2011). В диссертациях по историческим наукам традиционно добавляются рубрики «объект и предмет исследования», «территориальные и хронологические рамки исследования», «источниковая база исследования».
Требования «Положения о присуждении ученых степеней» и ГОСТа в известной мере провоцируют научную рефлексию: ставят соискателя перед необходимостью размышлять об актуальности, новизне, значимости своего труда, его методологии или, по крайней мере, находить удобные формулировки, позволяющие «соответствовать требованиям».
Анализ хронологических приоритетов тематики докторских диссертаций показывает, что наиболее часто исследователи обращаются к пореформенной России: период от отмены крепостного права в 1861 г. до революции 1917 г. затрагивается в 42 диссертациях из 95 (44%). История советского периода (октябрь 1917 г. – 1991 г.) освещается в 31 работе (33%). Разуме- ется, границы этих условно выделенных групп могут пересекаться, поскольку 18 исследований охватывают период «большой длительности» (более столетия или даже несколько веков).
Изучение тематических приоритетов диссертаций позволило выявить, что значительную группу составляют работы, посвященные разным аспектам государственной политики и государственного управления. В названиях многих из них ключевым является слово «политика»: например, политика молодежная, конфессиональная , информационная, в сфере образования, науки и художественной культуры, по управлению учебными заведениями, в отношении почитания святых и чудотворных икон и др. К указанным работам тематически примыкают те, что посвящены государственному управлению и деятельности его отдельных институтов: статистическим учреждениям, таможенному делу, губернской власти, государственному арбитражу и т.д. Впрочем, не всегда государство выступает как единственный субъект политики: в части работ по политической истории анализируются взаимоотношениям «власти и общества», «государства и церкви» и т.д. В целом такие диссертации составляют 36% от всего блока докторских диссертаций по отечественной истории за 2015–2019 гг.
Около 30% всех диссертаций за 2015–2019 гг. подготовлены по социальной истории, где предметом изучения является конкретное большое или малое сообщество, а также его повседневная жизнь и практики поведения: городское население, крестьянство, духовенство, мещанство, «советская интеллигенция», «беженцы и военнопленные», «российская эмиграция» и т.д.
Заметную группу составляют диссертационные исследования по истории культуры (15%), экономической истории (14%), различным аспектам истории религии и церкви (14%). Представлены работы по военной истории (6%), истории общественной мысли и общественных движений (6%); можно выделить небольшие группы работ по истории этнических сообществ и по исторической памяти. Границы этих работ могут пересекаться.
Таким образом, достаточно четко выделяются два блока приоритетных тем докторских диссертаций: один из них связан с историей государственной политики и управления, другой – с социальной историей.
Авторская рефлексия по вопросу о значимости исследования концентрированно выражена в таких рубриках диссертации, как «актуальность темы исследования», «научная новизна», «теоретическая и практическая значимость работы». Именно здесь соискатель объясняет, почему и с какой целью осуществлено исследование; порой, формулируя ответы на эти вопросы, диссертанты поднимаются на уровень размышлений о миссии историка в современном мире. В одних случаях диссертанты акцентируют востребованность своего исследования в современной общественной ситуации, в других – подчеркивают его значимость для постановки и разрешения новых научных проблем.
Так, Ф.А. Гайда, разрабатывавший в своей диссертации проблему взаимоотношений власти и общественности в период Третьеиюньской монархии, подчеркивает, что многие вопросы, стоявшие на повестке дня в то время, «не потеряли своего значения и поныне» и даже «стоят все острее»; в их числе вопрос о том, «является ли широкая политическая либерализация и демократизация единственным и безусловным путем развития в условиях бурного развертывания капиталистической экономики», а также «проблема роли государственной власти в политическом развитии общества» и «способности общества к саморегулированию» [ Гайда, 2016, с. 4–5, 14]. А.В. Келлер связывает актуальность своего исследования, посвященного цеховому ремеслу Санкт-Петербурга в XVIII – начале XX в., с «поисками альтернативных форм экономического развития», необходимых в условиях современного «перманентного экономического и экологического кризиса»: «цеховая организация и кустарные промыслы… могут послужить прототипом современной организации производства, объединяющей “ремесленных” мастеров по принципу гибких сетей высокотехнологичных малых производств», и составить достойную альтернативу массовому производству, обезличивающему производителя и потребителя [ Келлер, 2018, с. 3–4, 7–8, 17].
При обосновании актуальности исследования диссертанты могут избирать другую стратегию – указывать на необходимость преодоления историографических стереотипов, многие из которых сложились еще в дореволюционный или советский период; задачами в таком случае становятся «расширение исследовательского поля, поиск новых сюжетов и объектов исследования, преодоление зависимости “от источника”, от тем и предметов…, сконструированных современниками событий», выход за рамки привычных научных и идеологических дискурсов [Ростовцев, 2016, с. 21, 103-104, 107].
Новое представление о социальной миссии исторической науки отражено в работах, посвященных исторической памяти современного российского общества. Когда историки осознали «противоречия между “книжной” историей и “живой” поливариантной исторической памятью различных сообществ», важной задачей стала критическая рефлексия по отношению к современным идеологемам и мифологемам исторической памяти [ Красильникова, 2016, с. 3; Эрлих, 2015, с. 4-5].
В то же время в рубриках «актуальность», «научная новизна» и «теоретическая и практическая значимость исследования» наличествует немало шаблонных фраз и клише: многие диссертанты обосновывают актуальность и новизну своего исследования тем, что ими впервые осуществлен «комплексный анализ» такой-то проблемы. Стереотипно выглядит характеристика практической значимости диссертаций: большинство диссертантов указывают, что результаты их труда могут найти применение «при создании обобщающих научных трудов по такой-то проблематике» и «при разработке лекционных курсов по таким-то дисциплинам» (тем самым констатируя, что плоды их труда будут востребованы прежде всего их коллегами). Редко встречаются рекомендации использовать материалы той или иной работы, например, «в целях культурного и образовательного туризма», в деятельности музейных учреждений или же для «популяризации краеведения» [ Красильникова, 2016, с. 8]. Примером исследования, в котором подчеркивается общегуманитарная значимость труда, может служить диссертация С.В. Аристова, посвященная истории нацистских концлагерей на оккупированной территории СССР: автор указывает, что его материалы могут применяться «в работах психологов, социологов, политологов, культурологов, философов, рассматривающих проблему человека в условиях экстремального насилия над личностью и возможности противостояния системе тотального контроля» [ Аристов, 2019, с. 3, 9-10]. Таким образом, в этих рубриках диссертации проявляются два дискурса - «наука для науки» и «наука для общества», которые могут переплетаться в одних и тех же исследованиях.
Авторская рефлексия необходима и при характеристике методологии исследования: диссертанты часто указывают, в русле какого научного направления выполнена их работа, на какие теории они опирались, труды каких признанных ученых служили им ориентиром. Методологический раздел работы наряду с историографическим позволяет судить о том, какие научные традиции получили развитие в диссертации.
В советское время диссертации по историческим наукам содержали шаблонную формулу: «Методологической основой исследования служит теория марксизма-ленинизма». В 1990-е гг. во многих диссертациях методология исследования не была охарактеризована вообще, что свидетельствовало об определенной методологической растерянности. К началу XXI в. в диссертациях и авторефератах появляется специальная рубрика «методологическая основа исследования» и вырабатывается определенный канон ее написания.
В современных работах, в рубрике «методология и методы исследования», зачастую содержится множество каноничных формулировок, не отражающих специфику конкретного исследования и ставших элементом «научного этикета». Самая устойчивая из этих формулировок - «методологической основой настоящего исследования являются принципы историзма и объективности»; «историзм и объективность» по частоте упоминания могут смело соперничать с «марксизмом-ленинизмом» советских времен. Многие диссертанты пользуются как подспорьем трудом академика И.Д. Ковальченко, когда выстраивают иерархию теоретических (философских), общенаучных и специально-исторических методов, указывают в качестве общенаучных методов «анализ и синтез, индукцию и дедукцию, восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному», «исторический и логический методы», «системный подход и системный анализ», а в качестве специально-исторических выделяют историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и историко-системный методы [ Ковальченко, 1987, с. 141-193]. Можно предположить, что эта типология методов, разработанная в конце 1980-х гг., давно уже переходит из работы в работу безотносительно к первоисточнику.
И все же стереотипные формулировки не могут заслонить от нас глубоких методологических перемен в исторической науке, совершившихся за три последних десятилетия. Облик оте- чественной науки изменился вследствие антропологического поворота – поворота к изучению человека во времени. Задачей историка становится понимание людей прошлого во всем многообразии их ментальных структур, социальных связей, стратегий и практик поведения как в повседневной обстановке, так и в экстремальных условиях.
Например, Ф.А. Гайда рассматривает политические коллизии времен Третьеиюньской монархии сквозь призму трудов М. Хайдеггера и М.М. Бахтина. Идеи Хайдеггера задают экзистенциальное видение целей исторического исследования: «Историография, по мысли философа, призвана адекватно реконструировать ситуацию, в которой каждый человек реализует свой человеческий потенциал, собственно и становится человеком» [ Гайда, 2016, с.12]. В свою очередь, «философия поступка» и «теория диалога» М.М. Бахтина предполагают «реконструкцию “внутренней правды” участников исследуемого события, их “диалога”, понимаемого в широком смысле этого слова (взаимодействия, становящегося смыслом события)». В соответствии с этим Ф.А. Гайда предпринимает попытку реконструкции политической ситуации начала ХХ в. на основе анализа «проблем мировоззрения, мотивации, механизма выработки решений», «индивидуального поведения человека», «структуры социальной реальности (как совокупности стереотипов, норм, статусов, отношений и связей)». «Ситуационный анализ», по убеждению Ф.А. Гайды, позволяет взглянуть на историю как на цепочку человеческих решений и сеть взаимодействий, увидеть «различные возможности развития исторической ситуации», сохраняя при этом «объективность собственного подхода» [ Гайда, 2016, с. 12–14].
Антропологический поворот дает возможность увидеть в новом свете и проблемы экономической истории. А.В. Келлер в указанной диссертации рассматривает ремесло не только как «особый социально-экономический феномен», но и как особую «жизненную философию»: «Ремесленный мастер стремится не только к материальному благополучию и не столько к обогащению, но и еще в большей степени к профессиональному и социальному росту, целью которого является достижение “максимального профессионального мастерства в соответствующем виде деятельности”». Исследователь видит в ремесленнике не Homo economicus (эгоистичного индивидуума, заинтересованного исключительно в своей материальной выгоде), а Homo faber («человека творящего», художника и мастера) [ Келлер, 2018, с. 5, 3, 13–18]. При таком подходе любой интеллектуал, стремящийся к «максимальному профессиональному мастерству» в избранной сфере деятельности, оказывается в известной степени ремесленником, а изучение цехового ремесла стимулирует личностную и профессиональную идентификацию историка.
Социальная история за изучаемый период также приобрела новый облик. Все чаще объектом внимания историков становятся не крупные социальные группы («городское население Урала» или «крестьянство Центрально-Чернозёмной области»), а небольшие сообщества, членов которых иногда можно перечислить поименно, например, дьяки и подьячие в Московском государстве XIV–XVI вв., «западноевропейцы на русской военной службе» в XVI – начале XVII в., городское духовенство Тверской епархии XVIII в. Для реконструкции социального облика малых групп и типичных биографических траекторий их представителей уместным оказывается применение просопографических методов [ Савосичев, 2015; Скобелкин, 2015; Матисон, 2015].
Целый ряд диссертаций посвящен сообществам людей, вырванных из привычных условий существования и вынужденных устраивать свою жизнь «с чистого листа» на новом месте или даже выживать в экстремальных условиях: это беженцы, военнопленные, ссыльные, эмигранты, узники концлагерей [ Суржикова, 2015; Белова, 2015; Недзелюк, 2015; Островский, 2015; Кротова, 2015; Смирнов, 2018; Аристов, 2019]. На постановку исследовательских проблем в указанных работах оказал влияние прагматический поворот в исторической науке: их смысловым стержнем является анализ взаимосвязи картин мира, существовавших в сознании людей, их ценностей, приоритетов – и повседневного поведения, сети взаимодействий с окружающим миром, стратегий выживания и механизмов социальной мимикрии.
Так, в диссертации С.В. Смирнова история русской военной эмиграции в Китае в 1920-е – конце 1940-х гг. рассматривается в нескольких измерениях: институциональном (история деятельности и взаимоотношений военных организаций), социокультурном (способы сохранения корпоративной идентичности) и личностном (выбор стратегий адаптации в новой среде). Автор подчеркивает, что выбор линии поведения эмигранта всегда был индивидуален, однако анализ массовых источников позволяет определить «спектр вероятностных стратегий» и выделить «с известной долей условности» пять типов военных эмигрантов: «людей войны», активных антибольшевиков, пассивных антибольшевиков, «перерожденцев» и «шкурников», а также проследить возможные биографические траектории каждого из этих типов [Смирнов, 2018, с. 12–16, 25, 42–43].
На стыке институционального и личностного измерений рассматривает историю нацистских концлагерей на оккупированной территории СССР С.В. Аристов. С одной стороны, он исследует фактическую сторону истории концлагерной системы и взаимосвязи ее уровней. С другой стороны, в центре его работы – проблема человека в лагере. Концентрационные лагеря, подчеркивает автор, были не только «местами террора, эксплуатации, уничтожения», но и пространством «деиндивидуализации» и «деперсонализации» человека, «центрами трансформации человеческой личности, превращающими людей в заключенных с лагерными ценностями, установками и моделями поведения». Поэтому стратегии поведения заключенных включали не только «борьбу за элементарное выживание», но и попытки сохранения своей идентичности с помощью творчества, интеллектуальных занятий, религиозной веры, в некоторых случаях – вступления на путь сопротивления. Свой выбор делали и коллаборационисты – не только ради физического выживания, но и «для получения материальной выгоды и продвижения по службе». Наконец, с помощью просопографического метода исследователь воссоздает коллективные биографии комендантов концлагерей и выделяет типичные для них поведенческие модели: «идейные бюрократы», «меркантильные чиновники» и «садисты» (преобладавшим был второй из этих типов, что еще раз подтверждает тезис Ханны Арендт о «банальности зла») [ Аристов, 2019, с. 5, 8, 25–26, 29].
Если в центре анализа оказывается сообщество людей во всем многообразии его жизненных практик, то кардинально переосмыслена может быть история науки и образования. Пример тому – диссертация Е.А. Ростовцева, предметом которой является «корпорация Санкт-Петербургского университета конца XIX – начала ХХ в., включающая в себя преподавательский корпус и студенчество». Корпоративная история университета рассматривается сквозь призму антропологии науки, интеллектуальной истории и истории элит. Задачей исследования становится «не только создание коллективного социального портрета академической корпорации, но и восстановление картины “жизненного мира”, повседневных практик, коллективной памяти университетского сообщества рубежа XIX–XX вв.» В результате автору удается выявить особенности «патерналистской модели» российского дореволюционного университета, отличавшегося и от классического европейского университета, и от массовых университетов ХХ в. Е.А. Ростовцев подчеркивает, что именно в рамках этой модели сложился социокультурный тип петербургской университетской профессуры, готовой взять на себя миссию «духовных и политических воспитателей не только новых поколений российской интеллигенции, но и российского общества в целом»; благодаря этому университет смог стать не только центром науки и образования, но и «центром притяжения интеллигенции, вокруг которого возникало множество формальных и неформальных общественных структур» зарождающегося гражданского общества [ Ростовцев, 2016, с. 19, 23, 107–108, 366].
Синтез институционального, социокультурного и антропологического подходов в рассмотренных диссертациях позволяет сделать вывод о том, что в каждой из них речь идет не о социальной истории в классическом понимании этого термина, а скорее о социокультурной или «новой социальной» истории, которая за последние годы укоренилась в отечественной науке.
Таким образом, в центре многих диссертаций по отечественной истории, выполненных в русле политической, экономической или социальной проблематики, находится человек или сообщество людей. Сложная исследовательская работа направлена на понимание социокультурного мира людей прошлого, выбора, который им приходилось делать, способов и стратегий взаимодействия, позволявших им выживать в этом мире и добиваться своих целей. Знакомство с каждой из таких работ расширяет наши представления о человеке в истории; «открытие человека» становится главным результатом научных исследований. Однако анализ показывает, что очень трудно вместить эти результаты в шаблонные, клишированные формулировки таких диссертации, как «актуальность» или «практическая значимость исследования». Фактически при подготовке диссертации от историка требуется не только высокая степень профессиональной рефлексии, но и умение вписаться в существующий канон, найти баланс между творческой оригинальностью, формальными требованиями к научно-квалификационным работам и не- гласными коммуникативными соглашениями в научном сообществе («так принято», «все так пишут»). Остается открытым вопрос о том, может ли историк в такой ситуации сохранить свою идентичность как «человек творящий».
Список литературы Профессиональная рефлексия историка и канон научно-квалификационных исследований в современной российской науке
- Алеврас Н.Н., Гришина Н.В. Российская диссертационная культура XIX - начала XX веков в восприятии современников: к вопросу о национальных особенностях // Диалог со временем. М.: Б. и., 2011. Вып 36. С.221-247.
- Аристов С.В. Система нацистских концентрационных лагерей на оккупированной территории Советского Союза: 1941-1944 гг.: Автореф. дис.. д-ра ист. наук / Курский гос. у-т. Курск, 2019. 39 с.
- Белова И.Б. Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в России. 1914-1925 гг.: по материалам центральных губерний Европейской России: Автореф. дис.. д-ра ист. наук / Брянский гос. пед. ун-т им.ак. И.Г. Петровского. Брянск, 2015. 43 с.
- Гайда Ф.А. Власть и общественность в России в период кризиса Третьеиюньской системы: диалог о пути политического развития: 1910-1917 гг.: Дис.. д-ра ист. наук / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2016. 757 с.
- Историки в поисках новых перспектив: Коллективная монография / под общ. ред. З.А. Чеканцевой. М.: Аквилон, 2019. 416 с.