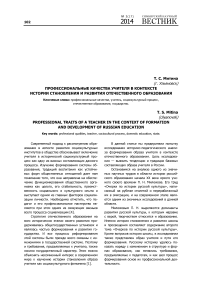Профессиональные качества учителя в контексте истории становления и развития отечественного образования
Автор: Митина Татьяна Сергеевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Человек и образование
Статья в выпуске: 3 (17), 2014 года.
Бесплатный доступ
Профессиональные качества, учитель, социокультурный процесс, отечественное образование, государство
Короткий адрес: https://sciup.org/14113938
IDR: 14113938
Текст статьи Профессиональные качества учителя в контексте истории становления и развития отечественного образования
Современный подход к рассмотрению образования в аспекте развития социокультурных институтов в обществе обосновывает включение учителя в исторический социокультурный процесс как одну из важных составляющих данного процесса. Изучение формирования системы образования, традиций воспитания как устойчивых форм общественных отношений дает нам понимание того, что она направлена на обеспечение функционирования общественного организма как целого, его стабильность, преемственность социального и культурного опыта и выступает одним из главных факторов социализации личности. Необходимо отметить, что педагог и его профессиональное мастерство являются при этом одним из связующих звеньев всего процесса социализации [4].
Стратегия отечественного образования на всех исторических этапах своего развития придерживалась общегосударственных установок и являлась частью формирования и развития государства. И все процессы реформирования этой системы были прежде всего связаны с изменениями в государственной системе. Поэтому и требования, предъявляемые к учителю, также носили государственный характер. Этим можно объяснить несомненный интерес в современном мире к изучению истории становления образа учителя как социокультурного феномена [1].
В данной статье мы предприняли попытку исследования историко-педагогического анализа формирования образа учителя в контексте отечественного образования. Цель исследования — выявить тенденции и традиции базовых составляющих образа учителя в России.
Остановимся на анализе одного из значимых научных трудов в области истории российского образования начала XX века яркого ученого своего времени П. Н. Милюкова. Его труд «Очерки по истории русской культуры», написанный на рубеже столетий и переработанный им в эмиграции, и на современном этапе является одним из значимых исследований в данной области.
Милюковым П. Н. выделяются доминанты развития русской культуры, к которым наравне с верой, творчеством относится и образование. Именно история становления и развития школы и просвещения составляет содержание второго тома «Очерков по истории русской культуры». Кроме вопросов истории школы, в исследовании также представлен образ учителя и пути его формирования. Русскому историку удалось показать наряду с изменением в структуре и формах образования, как менялись требования, предъявляемые к педагогам, и как шел процесс формирования основ их профессиональной деятельности.
Проводимый ученым анализ был основан на изучении широкого круга исторических источников с древнейших времен до современного ему периода. Рассмотрение проблемы начинается с периода Древней Руси. Милюков подчеркивает, что «мастера» — педагоги Древней Руси — умели натаскивать кандидатов в священство прямо с голоса, минуя хитрую науку грамоты». Сообразно практической цели такого обучения и содержание его состояло исключительно из зубрения наизусть важнейших церковных служб. «В выучку шел, конечно, человек взрослый, а не ученик, и «мастер» обучал его не в школе, а с глазу на глаз, получая свою плату за каждую вытверженную службу особо. Таким образом, правильное обучение азбуке в правильно устроенной школе оставалось в те времена идеалом, даже в такой наиболее просвещенной части тогдашней России, какою была Новгородская область» [2, с. 208].
Именно «мастер»-священник был первым учителем в Древней Руси, но и он «мало что разумел и повлиять на процесс обучения на территории всей страны не мог». Священники, которые «настаивают юношество чтению и письму», были также редки. В допетровской Руси, как отмечается в «Очерках», не существовало учителя в нашем современном понимании, как и не была сформирована «правильная школа». Знания передавались частным путем посредством выучки у мастеров-специалистов.
Первыми учителями в период петровских реформ были в основном приглашенные из-за границы, например, учитель навигацкой школы англичанин Фарварсон, подготовивший и издавший первые учебники. Нередко сам Петр I занимался просветительской деятельностью. И именно выпускники, получавшие образование в петровских учебных заведениях, осуществляли впоследствии педагогическую деятельность. «В один год с переселением в Петербург нави-гацкой школы Петр распорядился разослать по губерниям по два ученика этой школы, выучивших геометрию и географию, «для науки молодых ребяток из всяких чинов людей» [2, c. 248].
Отечественное образование на этом этапе развития пошло по пути формирования светской школы. Петр также отправлял молодежь за границу на учебу, и впоследствии они становились педагогами. Но говорить о специальном профессиональном педагогическом образовании в этот период не приходится. Для епархиальных школ на местах правительство не заботилось о контингенте учителей, и они набирались «случайным способом». В лучшем случае это были выпускники Московской и Киевской духовных академий или же местные священники.
Морская академия была центром подготовки учителей для цифирных школ. Но, как отмечается Милюковым, этот период не сформировал и не подготовил достаточного количества учителей, и вопрос об их профессиональном педагогическом образовании не ставился, как не ставились перед учителями и задачи воспитания и общего образования, главной была техническая выучка для профессиональных целей. «…педагогическая точка зрения также чужда была школе рассматриваемой эпохи, как и школе XVII века. Та и другая одинаково не смотрели на ученика как на предмет педагогического воздействия. Задачи воспитания ограничивались установлением внешней дисциплины» [2, с. 253—254].
Новый период в истории русского образования и формирования педагогической профессии связан со временем, когда на смену узкопрофессиональной и сословной школе пришла школа общеобразовательная и бессословная, преследовавшая чисто педагогические цели; она утвердилась лишь к концу XVIII века. Высшее образование также на первых порах основывалось на приглашенных профессорско-педагогических кадрах, которые порой за малочисленностью студентов присутствовали на лекциях друг друга.
С середины XVIII столетия шел процесс формирования университетского и гимназического образования. Но главной трудностью в этот период, как и раньше, являлась нехватка педагогического состава как в гимназиях, так и в университетах. Педагогами становились приглашенные из-за границы ученые и русские специалисты, прошедшие обучение за границей. В дворянской среде, как и прежде, было распространено домашнее образование и частные учителя.
В период правления Екатерины II, увлеченной не столько образовательными планами, сколько воспитательными проблемами, именно воспитание становится одним из важнейших направлений педагогической деятельности. Воспитание из семьи передавалось школе и становилось главной составляющей педагогической деятельности. Но подготовленных к такого плана профессиональной деятельности учителей не хватало.
Автором особо подчеркивается, что в России этого периода были напечатаны основные педагогические сочинения в рамках гуманистического воспитания — «Золотая дверь языков» А. Коменского, «Мысли о воспитании» Локка.
«Императрица черпала из них целые страницы для своих инструкций [Салтыкову] о воспитании внуков» [2, c. 264].
В этот период были заложены основы и женского воспитания и образования. Но государству нужны были прежде всего воспитатели. «Если найдутся подобные учителя, — рассуждает Бецкий по поводу реформы шляхетского корпуса, — то об успехах сомневаться не можно: буде же, по несчастью, таких людей не достанем, тщетны будут все предписания и все старания о произведении благонравия и успехов» [2, с. 266]. В конце царствования Екатерины воспитательные проблемы отходят на второй план, но все же идеи, что в школе должны быть педагогические цели, сохранились в российской педагогике и по сей день.
Следующий этап формирования общеобразовательной школы связан с прусской традицией и приглашенным Екатериной педагогом Янковичем де Мириево, который должен был организовать новый тип школы и подготовить учителей для педагогической деятельности по новым методикам. Впервые в истории был поставлен вопрос именно о формировании профессионального мастерства и, что самое важное, на основе современных методик и педагогических технологий. Главное отличие новой школы от предыдущей должно было, однако, заключаться не столько в программе, сколько в способе ее выполнения. По австрийской системе учитель находился в классе не для задания и выспрашивания уроков, а для самого усвоения проходимых предметов. Для этого учитель прежде всего должен был заниматься с целым классом, а не с отдельными учениками. В прежние времена каждый ученик учился сам по себе: одни уходили вперед, другие отставали, так что ни о каком общем деле в классе не могло быть и речи.
Чтобы ввести в действие австрийскую систему, нужны были учителя, знакомые с новой методикой преподавания. Стали печататься специальные книги по методике и впервые были предприняты меры по подготовке учителей. «Для этого были вызваны в Петербург 100 воспитанников духовных семинарий и Московской академии: для обучения их методу преподавания открыто в Петербурге (1783) главное народное училище. В 1786 году учительская семинария отделилась от главного училища и просуществовала до 1801 года, выпустив 425 учителей» [2, c. 270].
Такие училища стали открываться и в других городах. Но вся проводимая деятельность была осложнена материальными проблемами и порой нехваткой учеников.
И, несомненно, важным фактом в формировании положения учительства в обществе было то, что все училища должны были содержаться на средства «Приказов общественного призрения». Отказаться от этого расхода приказы не могли, но они старались сократить свои траты до минимума. В основном это делалось за счет учительского жалованья и в ущерб школьному благоустройству.
Устранив много препятствий на пути к успеху своего предприятия, правительство не в силах был устранить одного, самого главного — тяжелого материального и нравственного положения учителя в русской школе, которое сложилось к этому времени. Положение это являлось неизбежным последствием отношения общества к школе. Попадая в учительское звание большею частью не по своей воле, а по назначению епархиального начальства, учитель XVIII века не мог ни продвинуться вверх по социальной лестнице, ни уйти со службы иначе как в солдаты за пьянство и «дурную нравственность».
Социальное положение провинциального учителя, подчеркивается П. Н. Милюковым, было самое унизительное. «Его третировали и местные богатеи, и местные чиновники, и те, кто преклонялся перед силой чинов и денег, то есть, в сущности, все, не исключая и его самого. Милость сильных к нему выражалась обидной подачкой, при немилости он рисковал быть побитым «палочьем». При всех этих условиях люди, сохранившие теплоту сердца и интерес к своему делу, являлись единичными исключениями. Огромное большинство скоро махало рукой на все и кое-как тянуло служебную лямку» [2, с. 269].
Педагогические приемы уступали место старому «зубренью в одиночку». Учитель ограничивался обязанностью выспрашивания, а чаще всего и эту обязанность перелагал на более способных учеников.
В истории отечественной школы XIX век характеризуется чередой реформ в области образования, которые не всегда носили сугубо педагогический характер, а главной особенностью отечественного образования была связь с политическими настроениями русской власти и общества. В рамках формирования начальной школы (процесс становления, который в этот период только наступал) необходимо было наличие большего числа учителей. К учительской деятельности, как это было на протяжении XVIII столетия, стали привлекать священников, семинаристов. «Обеспечить новой школе учителей было гораздо труднее, чем прежде, ввиду большей сложности школьных программ. Предметы университетского курса, внедренные в гимназию, требовали совершенно новых преподавателей, хорошо усвоивших курс высшей школы. Эта потребность в преподавателях, прошедших высшую школу, и становится теперь главным побуждением, заставляющим торопиться с устройством университетов. Уже «предварительные правила» постановляют, что «всякий университет должен иметь учительский или педагогический институт» [2, с. 284].
Одним из первых в 1804 году в Петербурге открылся педагогический институт, основанный на базе существовавшей учительской семинарии. В 1811 году при нем начали работать курсы для вольнослушателей. На базе Казанского университета также открыли педагогический институт с казенными стипендиатами, одновременно педагогический институт был открыт и в Харькове. Для организации и преподавания в них традиционно приглашались иностранные профессора. На данном этапе эти учебные заведения испытывали много сложностей в своей деятельности, и для подготовки отечественных специалистов для университетов студентов отправляли для обучения за границу. А выпускники данных университетов становились прежде всего учителями в гимназиях.
Только реформа 1828 года вновь поставила вопрос в рамках образования о воспитании, которое должно контролироваться государством. Впервые государство начало регламентировать домашнее образование, и «домашние наставники и учителя» обязаны были отчитываться перед местным учебным начальством.
В университетах начали делать ставку на русское профессорское сообщество — получивших образование за границей (Неволин, Пирогов, Грановский), и необходимо отметить, что у них уже была широкая аудитория слушателей. Именно в этот период начинается борьба государства не за организацию школы, а с неизбежными ее просвещенческими результатами. Государство начинает активно вмешиваться в учебный процесс и контролировать все образовательные структуры начиная со школы и заканчивая университетами. Отсюда и характер всех реформ XIX века в этой области, и эти же тенденции сохранились и в последующие периоды.
Послабление в отношении профессорского состава и их положения в обществе рассматривалось в реформах 1848 года. Их интересы представлены профессором и попечителем Н. И. Пироговым [2, с. 308].
Вторая половина XIX века характеризовалась развитием гуманистических тенденций в отечественной педагогической мысли. «Русская новая педагогия развивалась начиная с 60-х годов на заветах Белинского. Белинский указал на развитие человечности в ребенке как на цель воспитания и на развитие человечности в ребенке, при внимательном отношении к его личности, как на основное средство. Любовное отношение к ребенку родных и близких, отказ от телесных и иных уничижающих наказаний — такова должна была быть атмосфера гуманитарного воспитания» [2, с. 322—323].
Эти идеи были усвоены передовой общественностью и положены в основу педагогических работ специалистов, занявшихся вопросами становления народного образования.
Новые педагогические идеи представлены в этот период как в общих, так и в специализированных педагогических журналах. Они выполняли просветительскую функцию и формировали мировоззрение учительского сообщества данного периода. С конца 50-х годов XIX века печатаются специальные педагогические журналы. Из них особым влиянием пользовался «Учитель» Паульсона (1861—1870), заявивший в первой же редакционной статье, что «воспитание состоит в правильном всестороннем развитии всех сил и способностей человека», что особенное внимание журнала будет обращено на психологию в применении к воспитанию и что главной темой журнала являются вопросы организации народной школы. В начале 60-х годов создается Петербургское педагогическое общество, в котором работают Ушинский и Водовозов, в 1861 году образуется Комитет грамотности при Вольном экономическом обществе.
Наглядное обучение, звуковой метод, метод изучения чисел — таковы темы журнальных статей и споров 60-х годов XIX века. На некоторое время вождем общественного мнения по этим вопросам становится Н. И. Пирогов, но он вскоре разочаровывается своим двойственным положением между правительством и общественным мнением. Сенсацию производит его статья «Вопросы жизни», защищавшая в 1856 году идею общечеловеческого воспитания — бессословного, всеобщего и обязательного и требование необходимости строительства образования в гуманитарном духе.
В начале 60-х годов общее внимание приковывают своими взглядами на школьное дело два писателя — Писарев и Толстой. Милюков отмечал, что в области педагогики они одинаково развивают идею вполне свободного воспитания. Уважение к правам и индивидуальности ребенка здесь достигло крайнего, почти парадоксального выражения: «Только не вмешивайтесь: ребенок сам себя воспитает». Таков этот парадокс начала 60-х годов. Несколько позднее на первое место в педагогике выдвинулся авторитет К. Д. Ушинского, этого «учителя учителей», автора трехтомного исследования «Человек как предмет воспитания» (1867—1869).
У церковно-приходской школы также был и свой идеолог и педагог — землевладелец и профессор С. А. Рачинский. Покинув в 1868 году Московский университет, он в своем Смоленском имении занимался обучением крестьянских детей «в нераздельной связи с церковью и приходом», и труды его «послужили образованию нескольких поколений в духе истинного просвещения, отвечающего духовным требованиям народа», как признано в данном на имя Рачинского рескрипте Николая II. Для него лучшие учителя — студенты, окончившие духовную семинарию и готовящиеся быть священниками; худшие — крестьяне, окончившие учительскую семинарию, которая портит деревенского парня [2, c. 335].
В конце XIX века особо остро ощущается нехватка учителей для работы в народных школах и необходимость их подготовки. Это также период интенсивного развития педагогической мысли, которая направлена прежде всего на формирование нового типа учителя, готового воплощать на практике новые идеи и методики. Были популярны книги методической направленности: Н. А. Кофу «Руководство обучению грамотности» и для чтения «Друг», «Методика грамоты» И. Н. Паульсона, «Книги для первоначального чтения в народных школах» В. И. Водовозова. «В особенности ярким представителем педагогов-энтузиастов второй половины XIX века являлся Н. Ф. Бунаков, специализировавшийся на роли лектора на курсах и съездах учителей и руководителя этих курсов по приглашению земств. Соединенными усилиями педагогов по призванию было воспитано несколько поколений учителей-идеалистов, «горевших», действительно, «как огни в темном поле» и помогших народной школе...» [2, c. 332—333].
Новый этап, выделенный П. Н. Милюковым, связан с периодом конца XIX — начала XX века. Основной доминантой данного периода является усиление общественной инициативы в деле народного образования. Либеральные педагоги разрабатывают программу народной школы, земство начинает ее осуществление, а освободительное движение расширяет ее рамки, содействует ее количественному росту и, наконец, привлекает к делу государственные ресурсы. При такой тесной связи между историей русской школы и политическими настроениями русской власти и общества совершенно невозможно говорить об одном, не касаясь другого.
Перед Октябрьской революцией 1917 года вся картина народного образования постепенно изменяется, доходя до полной противоположности, подчеркивается Милюковым. Бюрократический строй школы с ее религиозно-монархическими тенденциями уступает место строю, основанному на все более широком участии общественной инициативы, с тенденциями светскими и демократическими. Характерно, что революционные настроения прежде всего проявляются именно в среде, связанной со школой.
В высшей школе учащаются студенческие волнения, которые нередко переходят из чисто академических в смешанные с политикой. Профессора, вынуждаемые и поощряемые обострившимися отношениями к власти, начинают все более настойчиво добиваться самоуправления в высшей школе.
Со стороны низшей школы усиливается напор прогрессивных элементов, земского и городского самоуправления и все лучше организующегося учительства.
Милюковым П. Н. выявляются меры, которые предприняло государство в рамках подготовки учителей на рубеже веков. Правительство было особенно заинтересовано создать кадры учителей, пригодных для проведения его взглядов. В 1875 году была утверждена инструкция для правительственных учительских семинарий, полагавшая основой подготовки православие и народность. Учителя должны были проникнуться духом преданности «церкви, царю и Отечеству».
Как отмечает П. Н. Милюков, «корпус учителей к концу дореволюционного периода был весьма демократичен по социальному составу, но образовательный ценз его был невысок... Женский состав в последнем отношении стоял значительно выше мужского, особенно в земской и городской школе (64 % против 6 %). Это связано с более культурным социальным составом — 65 % учительниц происходило из дворян, мещан и духовенства против 30 % мужчин такого же происхождения» [2, c. 364].
Борьба с правительственной школьной политикой велась на всем протяжении между двумя революциями 1905 и 1917 гг., в ходе всерос- сийских учительских съездов, с трудом разрешавшихся правительством и с еще большим трудом удерживавшихся в пределах «благонамеренности». Таких съездов, связанных с вопросами педагогики и народного образования, за 1908—1913 гг. было двенадцать. Наиболее значительными между ними были Общеземский съезд по народному образованию (1911 г.), Всероссийский съезд по сельскому воспитанию (1913 г.) и самый радикальный из всех первый Всероссийский съезд по вопросам народного образования (1914 г.), в котором участвовало 6507 членов. Борьба между умеренной и радикальной частью педагогов происходила уже на земском съезде учителей 1911 года, подведшем итоги полувековой работы земской школы.
С такой подготовкой деятели народного образования перешли в период Февральской революции 1917 года, открывшей для них возможность осуществления самых радикальных положений. Милюков признает, что в течение этих восьми месяцев министерство не успело почти ничего сделать для реформы школы и изменения положения учителя.
В заключение П. Милюков указывает, что при общем распаде второй половины 1917 года в области школы царило полнейшее самоуправство. На местах, как следствие войны, «далеко пошел материальный упадок школы».
Путь формирования образа учителя в российской школе, таким образом, состоял из двух компонентов: первый — складывание педагоги- ческого сообщества, его профессиональной компетентности, это непрерывный этап, который представлен во всех периодах развития российского образования; второй — традиционные проблемы, с которыми учительское сообщество также сталкивалось постоянно, — это и нехватка учительских кадров, и их тяжелое материальное положение, и порой полное бесправие.
В рамках данной статьи нами был проанализирован один из компонентов целостного изучения развития образования — процесс формирования образа учителя в системе образования, определены основные проблемы и сложности развития данного процесса. Все эти компоненты позволяют и в современный период модернизации образования использовать тот опыт, который был выработан историей развития российского образования, и находить новые направления и механизмы в рамках формирования современного учителя.
-
1. Гагаев А. А., Гагаев П. А. Русские философско-педагогические учения 18—20 веков. Культурноисторический аспект. М. : Русское слово, 2002. 464 с.
-
2. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры : в 3 т. Т. 2. Ч. 2. М. : Прогресс-Культура, 1994. 496 с.
-
3. Милюков П. Н. Воспоминания : в 2 т. Т. 1. М. : Современник, 1990. 446 с.
-
4. Степашко Л. А. Философия и история образования. М. : Флинта, 1999. 272 с.
***
Список литературы Профессиональные качества учителя в контексте истории становления и развития отечественного образования
- Гагаев А. А., Гагаев П. А. Русские философско-педагогические учения 18-20 веков. Культурно-исторический аспект. М.: Русское слово, 2002. 464 с.
- Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. Т. 2. Ч. 2. М.: Прогресс-Культура, 1994. 496 с.
- Милюков П. Н. Воспоминания: в 2 т. Т. 1. М.: Современник, 1990. 446 с.
- Степашко Л. А. Философия и история образования. М.: Флинта, 1999. 272 с.