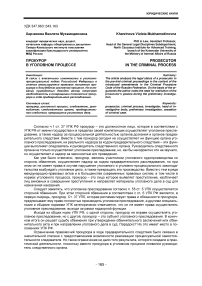Прокурор в уголовном процессе
Автор: Харзинова Виолета Мухамединовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 10, 2014 года.
Бесплатный доступ
В связи с внесенными изменениями в уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в статье анализируется правовое положение прокурора в досудебном уголовном процессе. На основании приведенных доводов автор отмечает необходимость в возвращении полномочий прокурора в ходе предварительного расследования.
Прокурор, уголовный процесс, следователь, руководитель следственного органа, предварительное следствие, прекращение уголовного дела
Короткий адрес: https://sciup.org/14935873
IDR: 14935873 | УДК: 347.963::343.163
Текст научной статьи Прокурор в уголовном процессе
Согласно ч.1 ст. 37 УПК РФ прокурор – это должностное лицо, которое в соответствии с УПК РФ от имени государства и в пределах своей компетенции осуществляет уголовное преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Вместе с тем прокурор сегодня не осуществляет ни функцию органа уголовного преследования, ни реального надзора за ходом предварительного следствия – эти функции выполняет следователь и руководитель следственного органа. Руководитель следственного органа не только осуществляет уголовное преследование, но, как бы некорректно это не звучало, он осуществляет и надзор за законностью его проведения.
Как уже было отмечено, прокурор, являясь участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения, осуществляет надзор за ходом предварительного расследования, но при этом он не имеет права в случае нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства возбуждать уголовное дело, а также прекращать его производство. Вместе с тем в ряде международно-правовых актов и в большинстве современных правовых систем, в том числе в нормах уголовного процесса, прокурор – это лицо которое выявляет преступление, изобличает лиц виновных в совершении преступления и направляет материалы уголовного дела в суд для назначения наказания.
Следует заметить, что уголовное преследование согласно п. 55 ст. 5 УПК осуществляется стороной обвинения. При этом стороной обвинения в соответствии с гл. 6 УПК РФ является, в первую очередь, прокурор. Ст. 37 УПК, которая регламентирует права и обязанности прокурора, предписывает ему право полностью производить уголовное преследование, а другими специальными и общими нормами УПК категорически отмечается, что он не имеет права осуществлять уголовное преследование, выходя за рамки надзорной функции.
Исходя из общих норм УПК РФ, с одной стороны, прокурор не вправе осуществлять уголовное преследование, но с другой, прокурор – это субъект уголовного преследования. В конечном итоге он решает судьбу обвинения при утверждении обвинительного заключения или обвинительного акта и при направлении уголовного дела в суд. Парадокс? Но это имеет место в положениях УПК РФ.
Ограничение правомочий прокурора в ходе предварительного следствия было связано в значительной степени с предоставлением возможности реализации процессуальной самостоятельности следователя. Но такое ограничение не дало того результата, которого ожидали в практической деятельности, поскольку вместо прокурора в уголовном процессе появился руководитель следственного органа.
Возникает резонный вопрос: приобрел ли следователь ту процессуальную самостоятельность, которая планировалась в связи с выведением из системы предварительного следствия прокуратуры? Однозначно нет, поскольку процессуальная самостоятельность следователя в ходе расследования остается закреплена п. 3 ч. 2. ст. 38 УПК РФ, но, на самом деле, он не имеет такой самостоятельности, поскольку следователь полностью зависим от руководителя следственного органа. Руководитель следственного органа вправе направлять ход расследования, а также отменять постановление следователя как незаконное и необоснованное. При этом если следователь не согласен с решением руководителя следственного органа, то он обязан получить согласие у того руководителя следственного органа, который отменил его постановление. Поэтому полномочия прокурора по отмене необоснованных и незаконных постановлений следователя или руководителя следственного органа, несомненно, являются необходимыми в уголовнопроцессуальной деятельности.
Данную проблему исследуют многие процессуалисты. Так, А.П. Кругликов, В.М. Быков отмечают необходимость возвращения процессуальных полномочий по осуществлению уголовного преследования прокурору [1; 2].
Заслуживает внимания п. 4 ст. 140 УПК РФ, которая в качестве повода к возбуждению уголовного дела предписывает «постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании». При этом следователь имеет право не согласиться с «мотивированным» постановлением прокурора, в котором содержится требование решить вопрос о возбуждении уголовного преследования, и для этого достаточно согласия руководителя следственного органа. А между тем неисполнение постановления прокурора (содержащегося в нем решения) означает фактическую его отмену, на что полномочий у следователя и руководителя следственного органа нет. Кроме того, последнее положение противоречит п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК, которая гласит, что в ходе досудебного производства по уголовному делу отменять незаконные и необоснованные постановления прокурора может только вышестоящий прокурор.
В УПК РФ содержатся и другие не соответствующие духу и букве закона положения, фактически дающие полномочия следователю и руководителю следственного органа осуществлять чуть ли не надзорные функции за процессуальной деятельностью прокурора, за законностью и обоснованностью принимаемых им решений, позволяющие следователю и руководителю следственного органа играть фактически главную роль в уголовном преследовании.
Приведем лишь некоторые из них. Например, ч. 6 ст. 37 УПК предусматривает положение, которое заключается в том, что прокурор, в случае получения отказа руководителя следственного органа либо следователя по поводу требования об устранении нарушения федерального закона, имеет право обращаться к руководителю вышестоящего следственного органа с требованием об устранении этих нарушений. При этом если руководитель вышестоящего следственного органа не согласен с требованиями прокурора, последний может обратиться к председателю Следственного комитета РФ или руководителю следственного органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти). И только после этого прокурор вправе обратиться к Генеральному прокурору РФ, решение которого является окончательным. Таким образом, законность и обоснованность требований прокурора об устранении нарушений федерального законодательства «проверяют», как бы парадоксально это ни звучало, соответствующие руководители следственных органов (и даже следователь!).
В ч. 3 ст. 38 УПК говорится о том, что в случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который «информирует об этом прокурора». Вот так: «информирует» прокурора и только! Сам же руководитель следственного органа согласно ч. 4 ст. 39 УПК РФ при несогласии с требованиями прокурора об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении иных нарушений федерального законодательства вправе вынести об этом мотивированное постановление, которое в течение 5 суток направляет прокурору.
УПК содержит и другие положения, позволяющие сделать вывод о том, что в определенных законом случаях именно руководители следственных органов и следователи фактически надзирают за законностью и обоснованностью действий и решений прокурора, а не наоборот. А между тем, основное назначение прокурора в уголовном судопроизводстве четко определено ч. 1 ст. 37 УПК. Признать незаконными и необоснованными какие-либо действия и постановления прокурора вправе только вышестоящий прокурор (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК). Руководители следственных органов и следователи обязаны выполнять постановления прокурора, а не отменять их, как это они фактически могут делать в настоящее время путем их неисполнения в соответствии с приведенными выше отдельными положениями УПК.
Настоящей проблемой альтернативного решения вопросов по защите конституционных прав и процессуальных гарантий, на наш взгляд, для государства и вовлеченных в уголовное судопроизводство граждан является тот факт, что полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве, в том числе по возбуждению уголовных дел и осуществлению уголовного преследования, существенно урезаны. Это отрицательно сказывается на решении всех задач уголовного процесса. Разве может прокурор реализовать в полном объеме, например, содержащееся в ч. 1 ст. 37 УПК полномочие осуществлять от имени государства полноценное уголовное преследование? Конечно, нет.
Рассматривая вопрос о полномочиях прокурора в стадии возбуждения уголовного дела согласно ст. 140 УПК РФ можно предположить, что законодатель отождествляет возбуждение уголовного дела с уголовным преследованием. Но как тогда быть с содержанием п. 55 ст. 5 УПК РФ, где говорится, что «уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления»? Названные участники уголовного судопроизводства, как известно, в соответствии с положениями УПК РФ появляются только после возбуждения уголовного дела. Поэтому вряд ли следует признавать удачным название повода для возбуждения уголовного дела, сформулированное в п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК. Самым правильным было бы со стороны законодателя вернуть прокурору право возбуждать уголовные дела при наличии поводов и оснований, установленных законом.
Разве можно при указанных изменениях УПК говорить об осуществлении прокурором полноценного уголовного преследования от имени государства? Думается, что нет. В лучшем случае можно говорить лишь о вынужденном участии прокурора в уголовном преследовании, поскольку следует придерживаться принципа состязательности в уголовном процессе.
Многие процессуалисты отмечают спорный характер норм, регламентирующих полномочия прокурора в уголовном процессе, и отмечают неэффективность применения этих норм в практической деятельности [3; 4].
Прокурор в уголовном судопроизводстве не только должен осуществлять уголовное преследование от имени государства, но и руководить уголовным преследованием, которое осуществляют следователи и органы дознания. Прокурору необходимо предоставить решающее право «распоряжаться» публичным уголовным преследованием, иначе невозможно обеспечение конституционных прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других участников уголовного судопроизводства. Этот вывод исходит из ч. 1 ст. 21 УПК, которая гласит, что «уголовное преследование от имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения осуществляет прокурор, а также следователь и дознаватель». Буквальное толкование этой нормы означает, что уголовное преследование осуществляет прокурор, а также наряду с ним в определенных законом пределах могут осуществлять также следователь и дознаватель.
Все вышеизложенное, а также другие положения УПК РФ, на наш взгляд, свидетельствуют о необходимости вернуть прокурору те права, которые позволяли бы осуществлять от имени государства уголовное преследование.
Ссылки:
-
1. Кругликов А.П. Полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществлению уголовного преследования // Законность. 2012. № 1.
-
2. Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Казань, 2008.
-
3. Божьев В.П. О властных субъектах уголовного процесса в досудебном производстве // Российский следователь. 2009. № 15.
-
4. Колоколов Н.А. Последние новеллы УПК РФ: баланс обвинительной власти стабилизируется // Уголовное судопроизводство. 2009. № 2.