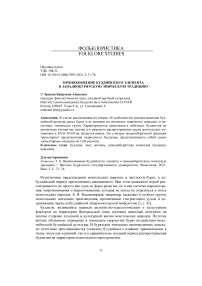Проникновение буддийского элемента в западно-бурятскую эпическую традицию
Автор: Аюшеева Эржена Баировна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Фольклористика
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос об особенностях распространения буддийской религии среди бурят и ее влиянии на эпическое творчество западных и восточных этнических групп. Характеризуется деятельность тибетских буддистов по пропаганде учения как основа его широкого распространения среди монгольских кочевников в XVTI-XVTII вв. Делается вывод, что улигеры западнобурятской традиции транслируют представления «народного» буддизма, представляющего собой самые элементарные сведения об этой религии.
Буддизм, эпос, мотивы, западнобурятская эпическая традиция, персонаж
Короткий адрес: https://sciup.org/148323475
IDR: 148323475 | УДК: 398.22 | DOI: 10.18101/2686-7095-2021-2-71-76
Текст научной статьи Проникновение буддийского элемента в западно-бурятскую эпическую традицию
Аюшеева Э. Б . Проникновение буддийского элемента в западнобурятскую эпическую традицию // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2021. Вып. 2. С. 71–76.
Религиозные представления монгольских народов, в частности бурят, в до-буддийский период представлены шаманизмом. При этом шаманизм порой рассматривается не просто как одна из форм религии, но и как система мировоззрения, миропонимания и мироотношения, которая не могла не отразиться в эпосе монгольских народов. Б. Я. Владимирцов, например, выделяет в особую группу монгольские эпические произведения, пропитанные тэнгристским духом и сохраняющие черты добуддийской общемонгольской мифологии [3, с. 41].
Буддизм, являвшийся важным религиозно-идеологическим и культурным фактором на территории Центральной Азии, наложил заметный отпечаток на многие стороны духовной и культурной жизни монгольских народов. Поэтому вполне объяснимо отражение в эпическом творчестве бурят воздействия индотибетской буддийской культуры. В бурятских эпических произведениях довольно отчетливо прослеживаются элементы буддийского влияния, привнесенные в ткань эпоса как в ранний, так и в сравнительно поздний период распространения буддизма на территории монгольского пространства.
Широкое распространение буддизма и его признание монгольской аристократией в качестве государственной религии способствовали распространению буддийской культуры среди простых кочевников, а затем и проникновению основных его положений в устное народное творчество и, соответственно, в монгольскую и бурятскую эпическую традицию. Если в произведениях XIII в. в основном восхваляли Чингисхана и его сподвижников, то для произведений XIV в. наиболее характерна буддийская тематика. С этого времени, как известно, монголами активно переводились молитвенные книги. В Турфанской коллекции встречается большое количество таких книг на монгольском языке [10, с. 92–93]. Влияние буддизма на монгольскую культурную жизнь очевидно.
Необходимо обратить внимание на то, что влияние буддизма на мифологическое мировоззрение монголов происходило в два этапа, или две волны. Так называемая уйгурская волна, период которой предположительно датируется XIII–XIV вв., считается временем раннего знакомства монголов с буддизмом. Монгольским племенам на заре их истории пришлось столкнуться с уйгурами, народом, им родственным этнически, тюркского происхождения, жившим в условиях как оседлой, так и кочевой жизни. Среди уйгуров тогда уже были распространены христианство, ислам и буддизм, который особенно был силен в восточной части областей, занятых уйгурами, значит, ближайших к монголам. От них монголы и позаимствовали свои первые понятия о буддизме, который не распространился тогда широко среди монгольского народа, переживавшего период необычайного национального подъема и образования могучей империи. Следует отметить, что буддизм был принят только монгольской аристократией, главным образом той, которой пришлось жить в городах Китая и Южной Монголии. Масса же монгольская осталась чуждой этому религиозному течению [4, с. 15–17].
Официальное принятие буддизма в Монголии запустило процесс диффузии, постепенного включения и проникновения буддийских культов в культовую систему шаманизма. В конце XVI в. правитель одного из княжеств Северной Монголии Алтан-хан объявил буддизм государственной религией. Это произошло в 1576 г. на съезде в присутствии иерарха школы гелукпа Сонома Гьяцо, которому был присвоен титул далай-ламы. Территория Бурятии в это время была в подчинении у правителей Северной Монголии, поэтому буряты-кочевники в это время уже были знакомы с буддизмом [2]. Придание буддизму статуса государственной религии, конечно, еще более усилило его влияние на территории современных Монголии и Бурятии.
Тибетская волна считается периодом широкого распространения буддизма. К этому времени многие ранние индо-тибетские образы и сюжеты были уже адаптированы в мифологических представлениях монгольских народов. После падения монгольской династии в Китае монголы были вынуждены вернуться в степь, т. е. к практически первоначальному уровню развития, из которого их вывели в XIII в. исторические обстоятельства и завоевания Чингис-хана. В XVI в. вместе с укреплением некоторых монгольских ханств начинается и общее возрождение монгольской жизни. В этот период монголам пришлось столкнуться с Тибетом, познакомиться с буддизмом в форме секты «желтошапочников», которая к этому времени стала господствующей в Тибете.
Энергичная деятельность тибетских буддистов по пропаганде учения среди монгольских кочевников стала основой его широкого распространения среди почти всех монгольских племен. В XVII в. монголо-ойратское племя хошутов завоевывает Тибет и передает светскую власть над центральным Тибетом Далай-ламе, считавшемуся духовным лидером секты Гелукпа.
Огромное значение в распространении буддизма сыграли буддийские монастыри, которые являлись средоточием религиозной жизни в Тибете и Монголии. В этих странах среди редкого кочевого населения они стали центром не только религиозной, но и вообще культуры [4, с. 25]. Каждый человек неизбежно был связан со своим монастырем. Результатом такого взаимоотношения стало включение простыми кочевниками отрывков буддийских трактатов и описаний в уже существующие устные произведения монголов.
Реалии буддийского вероучения постепенно появляются в повседневной жизни бурят. Особенно это было заметно у восточных бурят, в отличие от западных, среди которых буддизму не сразу удалось найти сторонников и последователей. В Забайкалье буддизм утвердился в начале XVIII в. и стал влиятельным политическим и культурно-идеологическим фактором. Тогда как во всей Западной Бурятии и лишь в части Забайкалья распространилось православие, которое имело статус государственной религии и потому занимало активную позицию [7]. Это и явилось одной из причин разделения бурят на восточных и западных.
Одной из ярких черт западнобурятских улигеров является обилие заимствованных русских слов («шумдаан» — чемодан, «алаабхи» — лавка, «хоримииса» — карниз, «хаһаг» — казак, «хадуушха» — подушка и многие другие). Также встречаются развернутые описания дворцов эпических героев, во многом отражающие архитектуру православных церквей:
Тэбхэр сагаан байсан гээшэ Бодхожол үгэбэ. <…> Дээдэ ханай биеэрэн Шагаабари гаргаба <…> Тэрэ ехэ шагаабартаа Үлгүүр мүнгэн шэжэмтэй, Шэжэм бэрээ ураатай.
Ураахани бэрэлэ Шаньянуури зүүжэ лэ Зэдэлгүүлэн байба ла.
Квадратный белый дворец
Построили ему. <…>
На верхних его этажах
Окна прорубили <…>
На множестве этих окон Висячий серебряный механизм, На механизмах — кресты.
На каждом кресте
Висит колокол,
Который звонко звонит [1, с. 44].
Подобные формульные описания эпических дворцов встречаются в эхирит-булагатской Гэсэриаде и в других улигерах этой эпической традиции1 [1], что отражает реальные исторические и социально-бытовые условия, в рамках которых развивалось устное эпическое творчество западных бурят. В унгинских ва- риантах Гэсэриады подобные вкрапления встречаются, но намного реже. В целом подобные элементы, вливаясь в повествовательную канву бурятских улиге-ров, в частности, в тексты разных версий Гэсэриады, по-своему обогащают об-разно-мотивный фонд эпических произведений и могут стать объектами изучения в этнографическом плане.
Что касается восточнобурятской эпической традиции, то здесь отмечается значительное влияние буддизма. В Забайкалье благодаря буддизму были занесены старомонгольская и тибетская письменности, распространились индотибетские и монгольские культурные традиции, росло число дацанов. Ламаиза-ция восточных бурят, по словам А. И. Уланова, стала одной из причин угасания фольклорной эпической традиции, эпос оказался на стадии перехода в сказочные рассказы [8, с. 162]. Записанные у агинских бурят тексты имеют много общего с монгольскими версиями, и главное отличие — они бытуют в прозаической форме и исполняются речитативом. Именно у восточных бурят были записаны все письменные версии бурятской Гэсэриады и ни одного текста у западных [9, с. 86].
В конце XIX в. началось активное проникновение буддизма в западную Бурятию, где он встретил некоторое сопротивление со стороны шаманов и поддерживаемого царской администрацией православного духовенства, не желавших дальнейшего расширения сферы влияния буддизма.
Позднее проникновение буддизма в районы западной Бурятии стало одним из факторов сохранения добуддийской основы улигеров. Кроме того, живая традиция исполнения улигеров диктовала устойчивость бытования сказаний, где традиционность имела определяющее значение. Тем не менее в эпическом тексте под влиянием меняющейся действительности появлялись буддийские напластования.
Принципы народного буддизма, религиозные буддийские представления, распространенные среди мирян и включающие помимо канонических воззрений до-буддийские местные верования, а также упрощенное изложение принципов буддизма, отражены в работе О. М. Ковалевского «Буддийская космология», изданной в 1897 г. [6]. Книга основывается на сочинении Гууши Чорджи «Чихула хэрэглэгчи тэгус удхату шастир» («Шастра, заключающая в себе все действительно необходимое», XVI в.), и на сегодняшний день это единственный компендиум сведений по монгольскому народному буддизму. В эпосе отражена буддийская картина мира именно в народном понимании. Она основывается не на буддийских философских трактатах, а на народных представлениях. Проводниками буддийских понятий в эпические произведения являлись сказители, носители устной эпической традиции. Именно они играли главную роль в проникновении, а затем и адаптации заимствованного элемента, будь то предмет, не известный ранее в традиционной культуре, или персонаж. Думается, что в бурятской эпической традиции наиболее полно отразилась буддийская картина мира в народном понимании.
Причина популярности широкого распространения буддизма в том, что его лояльные культовые практики органично вписывались в местную систему сложившейся религиозной картины, при этом не исключая исконные догматы, а дополняя их, привнося в них новое, не создавая конфликта [5, с. 24]. В мифологи- ческом пантеоне духов появились новые персонажи с сопутствующей буддийской легендой.
В эпической традиции буддийские элементы вплетались в общую канву произведений, частично вытесняя при этом исконные представления и шаманских персонажей, на протяжении долгого времени являвшихся основными фигурами мифо-религиозного мировоззрения монгольских народов. Постепенно, с течением времени занимая ключевые позиции в повествовании эпоса, они вставали в один ряд с верховными божествами исконной мифологии. Подобное явление наблюдается в западнобурятских версиях Гэсэриады, где наряду с исконными мифологическими божествами Эсэгэ Малаан баабай, Манзан Гүрмэ төөдэй фигурируют буддийские персонажи Будда Шакьямуни и лама. В некоторых текстах также наблюдается замещение общемонгольских божеств буддийскими в их функциях покровительства эпическому герою, наречения имени и благословения.
Таким образом, бурятская мифология, которая лежит в основе эпического творчества, складывается из шаманистических и заимствованных буддийских представлений. Буддийское влияние в бурятских улигерах, отражает самые общие представления людей о новой и незнакомой им религии.
Список литературы Проникновение буддийского элемента в западно-бурятскую эпическую традицию
- Абай Гэсэр-Хубун: эпопея: (Эхирит-Булагат. вариант) / записан Ц. Жамцарано у сказателя Маншута Имегенова; подготовка текста, перевод и примечания М. П. Хомонова; вступительная статья А. Уланова. Улан-Удэ: Изд-во БКНИИ СО АН СССР, 1961. 231 с. Текст: непосредственный.
- Буддизм в России = Buddhism in Russia: [Изд. к выставке в рамках культур. прогр. саммита АТЭС-2012] / научный редактор Н. Жуковская. [Б. м.: б. и.], [2012]. 111 с. Текст: непосредственный.
- Владимирцов Б. Я. Монголо-ойратский героический эпос / перевод, вступительная статья и примечания Б. Я. Владимирцова. Петербург; Mосква: Гос. изд., 1923. 254 с. Текст: непосредственный.
- Владимирцов Б. Я. Буддизм в Тибете и Монголии. Петербург: Изд. отд. по делам музеев и охр. памятников искусства и старины, 1919. 52 с. Текст: непосредственный.
- Жуковская Н. Л. Народные верования монголов и буддизм (о специфике монгольского ламаизма) // Археология и этнография Монголии. Новосибирск: Наука, 1978. С. 24-36. Текст: непосредственный.
- Ковалевский О. Буддийская космология. Казань: Типография Казан. ун-та, 1837. 177 с. Текст: непосредственный.
- Михайлов Г. И. Мифы в исторических сочинениях XIII-XIX вв. монгольских народов // Фольклор и историческая этнография. Москва: Наука, 1983. С. 70-78. Текст: непосредственный.
- Уланов А. И. К характеристике героического эпоса бурят. Улан-Удэ: Бурят.-Монг. кн. изд-во, 1957. 172 с. Текст: непосредственный.
- Хомонов М. П. Варианты эпоса "Гэсэр" (как источники) // Гэсэриада: фольклор в современной культуре: сборник статей и материалов. Улан-Удэ: Наран, 1995. 134 c. Текст: непосредственный.
- Цэрэнсодном Д. Истоки и своеобразие письменной поэзии монголов эпохи средневековья. Улан-Батор: "Тод Бичиг" ХХК-д хэвлэл, 2017. 221 с. Текст: непосредственный.