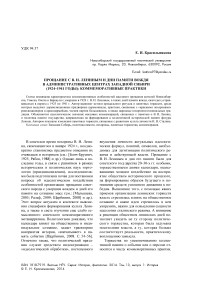Прощание с В. И. Лениным и дни памяти вождя в административных центрах Западной Сибири (1924–1941 годы): коммеморативные практики
Автор: Красильникова Екатерина Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена характеристике коммеморативных особенностей массового прощания жителей Новосибирска, Томска, Омска и Барнаула с умершим в 1924 г. В. И. Лениным, а также дней памяти вождя, ежегодно устраивавшихся в период с 1925 по 1941 г. Автор выявляет истоки прощального ритуала и памятных торжеств, среди которых выделяет дореволюционные придворные церемониалы, практики, связанные с «красными похоронами» революционеров и красноармейцев, членов партии большевиков, а также народные похоронно-поминальные традиции. Объясняются идеологическое значение массовых коммемораций, связанных с памятью о В. И. Ленине, и политика памяти государства, направленная на формирование в коллективной исторической памяти фигуры Ленина. Автором показаны изменения памятных торжеств, связанные с развитием культа личности И. В. Сталина.
Западная сибирь, политика памяти, похороны, памятные торжества, коммеморация
Короткий адрес: https://sciup.org/147218997
IDR: 147218997 | УДК: 94.57
Текст научной статьи Прощание с В. И. Лениным и дни памяти вождя в административных центрах Западной Сибири (1924–1941 годы): коммеморативные практики
В советское время похороны В. И. Ленина, скончавшегося в январе 1924 г., неоднократно становились предметом описания их очевидцев и историков (см.: [Бонч-Бруевич, 1925; Рябов, 1988] и др.). Однако лишь в последние годы, в связи с развитием в рамках исторических и политических наук эорто-логии (праздниковедения), исследователями была подготовлена почва для постановки вопроса об идеологическом воздействии особенностей организации прощания советского народа с умершим вождем и дней его памяти на сознание масс (см.: [Малышева, 2005; Ральф, 2009; Щербинин, 2008] и др.). Этот вопрос актуален в контексте выяснения специфики формирования культа Ленина, а также в свете изучения еще слабо осмысленного советского коммеморативного метанарратива. Политологами доказано, что календарь влияет на общественное и индивидуальное сознание, задает траекторию восприятия истории, «впечатывает» в память события [Щербинин, 2008. С. 54–56]. Отмечено также, что политический праздник служит средством индоктринации – «идеологической обработки», постепенного внушения личности актуальных идеологических формул, понятий, символов, необходимых для легитимации политического режима и действующей власти. Прощание с В. И. Лениным и дни его памяти были для советского государства 20–30-х гг. особыми, торжественными днями календаря, оказывавшими мощное воздействие на восприятие обществом исторического прошлого, на формирование образов будущего и понимание средств успешного движения к победам. Выяснение того, с помощью каких приемов организации ленинских торжеств власть стремилась влиять на общественное сознание и какие идеи стремилось в нем укоренить, важно для осмысления сущности идеологии сталинского режима. А внимание к рецепции обществом ленинских дней позволяет увидеть не ту сторону политического торжества, которая была задумана носителями власти, а ту, которая больше соответствует реальности, практическому воплощению замысла.
Торжества по увековечиванию коллективной памяти о событии или о персоне относятся к числу коммеморативных практик.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 1: История © Е. И. Красильникова, 2014
Коммеморация служит целям фиксации, воспроизведения и трансляции коллективной памяти. Коммеморативные практики складываются под воздействием традиций, политики памяти государства, контекстов социально-экономической и культурной жизни. Коммеморация служит не только определенному пониманию индивидом прошлого, но и его «вживанию» в прошлое, переживанию прошлого. Цель данной статьи – охарактеризовать коммеморативные особенности массовых торжеств, посвященных прощанию жителей крупных западносибирских городов с умершим вождем В. И. Лениным, а также дней памяти Ленина, устраивавшихся в этих городах во второй половине 1920-х – 1930-х гг. Для реализации поставленной цели предстоит решить следующие задачи: описать ритуальные особенности прощания горожан Западной Сибири с умершим вождем и сценарные особенности дней памяти Ленина, определить истоки прощального ритуала и сценариев памятных торжеств, объяснить выбор власти в пользу этих практик; показать специфику восприятия торжественных коммемораций населением; установить содержание государственной политики памяти, влиявшей на данные коммеморации, и объяснить их идеологическое значение. Под политикой памяти (исторической политикой) мы подразумеваем способы и сам процесс идеологизации прошлого, создания необходимых власти социальных представлений и национальных символов [Савельева, Полетаев, 2004. С. 41]. По словам французского историка Ю. Шер-рер, «историческая политика, в общем и целом направлена на формирование общественно значимых исторических образов, которые реализуются в ритуалах, претерпевая изменения со сменой поколений или по мере эволюции социальной среды» [2009. С. 91]. Мы исходим из представления о том, что в тоталитарных условиях политика памяти направлена на формирование и закрепление прежде всего нормативной или догматичной картины прошлого.
Основными источниками нашего исследования стали документы из фондов Ист-парта, городских советов, губернских и уездных комитетов РКП(б), окружных комитетов ВКП(б), а также местные ежедневные газетные издания. Важно то, что сегодня мы не можем воссоздать целостную картину восприятия обществом ленинских дней. Источники, которые могли отражать критичное отношение населения к этим торжествам и их неприятие, не были нами выявлены. Заметно, что в советских архивах отложились прежде всего документы, отражающие официальную версию картины политических событий. Печать также по идеологическим причинам отражала лишь один из вариантов восприятия обществом кончины вождя и памятных дат, связанных с его именем. Эта официальная версия событий и общественных настроений могла иметь мало общего с реальной картиной. Однако конкретными данными о вариантах негативной рецепции ленинских торжеств в городах Западной Сибири мы сегодня не располагаем. Поэтому в нашей статье речь пойдет преимущественно о том, в каком свете власть стремилась преподнести обществу траур по вождю и каков был отклик на эти коммеморации в социально-полити ческой среде, солидарной с властью большевиков.
В. И. Ленин скончался 21 января 1924 г. Образец похоронного ритуала был во многом заимствован из дворцовых церемониалов имперского периода (религиозные сценарные элементы старались заменить гражданскими), использовались и уже оформившиеся образцы «красных похорон» героев Гражданской войны. Применялись и дореволюционные приемы привлечения внимания населения всей страны к смерти политического лидера. Большевики старались всячески подчеркнуть необычность похорон Ленина, их иное, нетрадиционное значение. Однако заметно, что по факту именно традиционное восприятие смерти и похорон во многом определило характер прощания сибиряков с вождем. Советская власть использовала максимум возможностей (телеграф, радио, печать) для тиражирования на всю страну сведений об этапах прощания с вождем и его погребении, стремясь вовлечь наибольшее число членов общества в похоронно-поминальные коммеморации, создать у каждого жителя страны ощущение личного присутствия на похоронах. Подобным образом в дореволюционные времена Печальная комиссия работала над изданием манифеста о кончине государя и рассылала по всей империи тексты церемониалов его похорон [Логунова, 2010. С. 112]. Однако тиражирование свежей информации о похоронах первого советского вождя проходило активнее.
Пока круг избранных лично прощался с телом В. И. Ленина в Москве, в западносибирских городах парткомы и партийные ячейки организовывали локальные демонстрации с участием отдельных групп населения. Двумя годами позже журналист «Советской Сибири» писал об этом моменте: «У всех появилась какая-то инстинктивная потребность собраться коллективно, осмыслить значение великой утраты» [А. Н., 1926. 22 янв.]. Эта «инстинктивная потребность» объясняется слаженной организаторской работой агитаторов и народной традицией откладывать любые дела и спешить на похороны знакомого человека. Партийным органам важно было вызвать у населения одновременное ощущение скорби, силы и «мятежные военно-революционные думы» [Собрание в клубе, 1924. 24 янв.]. В партийных ячейках, на предприятиях, в клубах и на улицах зачитывались вслух газетные репортажи и краткие правительственные телеграммы. Их содержание могло ограничиваться краткой фразой, к примеру: «Его нет среди нас, но его дело останется незыблемым» 1. В начале 1920-х гг. обряд «красных похорон» предписывал их участникам эмоциональную сдержанность и «стойкость» [Красильникова, 2011. С. 235]. В данном случае слезы были предписаны каждому, кто не имел возможности лично обнажить голову у гроба Ильича, но должен был прочувствовать значимость смерти вождя. Это отражалось в лозунге: «Широчайшие массы трудящихся всей России будут оплакивать своего вождя» 2. О реках слез говорили и агитаторы, не боявшиеся преувеличений: «Когда было получено известие о его смерти, самые закаленные и испытанные товарищи заплакали, теперь плачет эта твердая, несокрушимая сила» 3. Известие о кончине вождя на предприятиях слушали стоя. Некоторые лозунги призывали к выполнению традиционных для похорон ритуальных действий, к примеру: «Обнажите головы перед светлой могилой великого учителя» 4. Само непрестанное чтение лозунгов в практическом смысле ассоциируется с традиционным произнесением у гроба молитв за упокой. Лозунги и летучие митинги, по нашему мнению, заменяли литии, которые чи- таются у гроба на православных похоронах. Следует учесть и то, что по традиции с момента выставления тела усопшего императора в поминальной комнате и до его похорон придворные и священники постоянно читали Евангелие над телом усопшего 5.
Ту часть общества, которая искренне скорбела, захлестнула волна переживаний, характерных для традиционных похорон. Крестьяне же, наблюдавшие за событиями со стороны и не вникавшие глубоко в суть дела, задавались вопросом: состоится ли отпевание лидера государства в церкви [Пушкарев, 1924]. Приходилось разъяснять им, что большевики «своих» так не хоронят. Разумеется, похороны были гражданскими, на них не должно было идти речи о бессмертии души, но важно было сделать акцент на идее бессмертия общего дела революции. Однако на практике мы видим, что ораторы не всегда могли подобрать нужные слова, поскольку традиция владе-ла их сознанием. Не случайно писатель В. Я. Зазубрин говорил в эти дни о кончине вождя: «В необычном движении улицы, в необычном цвете знамен и повязок, в необычной тишине редакции – новое, многозначительное. Что? Не скажешь. И все же не смерть». Но показательно, что и мастер слова Зазубрин не смог в этот момент точно объяснить, что же это такое, если не смерть [1924. С. 4].
До революции в дни похорон членов царской семьи запрещались работа увеселительных заведений и торговля. Но в день похорон В. И. Ленина запретили также и работу вообще, чтобы вся страна сконцентрировала внимание на эпохальном прощании. Сибирский революционный комитет даже постановил соблюдать траур на протяжении целой недели (с 22 по 27 января) с запретом всех спектаклей, концертов и увеселений 6.
Сохранилась стенограмма чрезвычайного заседания Новониколаевского горсовета, устроенного вечером 24 января 1924 г. Мы не можем полностью доверять этому тексту, поскольку очевидна его «шлифовка», но имеющаяся редакция все-таки содержит ряд цитат, свидетельствующих о неоднозначном понимании собравшимися происходивших событий. Судя по стенограмме, началось заседание в соответствии с шаблоном аналогичных дореволюционных мероприятий. В выступлении заместителя председателя Сибревкома чувствуется даже оттенок религиозности: «Пусть он умер, но дух его с нами, почтим его память вставанием» 7. Выразив скорбь, ораторы, однако, затем попытались, руководствуясь соображениями политической прагматики, изменить общее эмоциональное состояние присутствующих, воспринимавших траурное собрание как похоронное. Уже на этом собрании важно было добиться деперсонализации личности В. И. Ленина, приступить к формированию в коллективной памяти фигуры Ильича, символизирующей революцию, партию, рабочий класс, вызвать у собравшихся оптимистические чувства и ожидания 8.
Кульминацией массового прощания сибиряков с Лениным стали ночные демонст-рации-похороны, организованные также с опорой на образцы имперских церемониалов и практику «красных» похорон. На центральных площадях городов местные власти должны были собрать народ для проведения массовых коммеморативных мероприятий. Подобно тому как дореволюционные церемониалы определяли порядок траурного шествия за гробом, теперь органы местной власти расписывали порядок построения и движения демонстрантов в ночь похорон вождя. В Новониколаевске подобных демонстраций было две. Первая, состоявшаяся 23 января на Октябрьской площади, была приурочена к известию о кончине В. И. Ленина [Кручина, 1924. 24 янв.]. Вторая демонстрация, прошедшая 27 января, была приурочена к похоронам. Пятидесятитысячная толпа собиралась у здания райисполкома. Начало церемонии обозначил похоронный марш (проведем аналогию: печальное шествие на царских похоронах, как и на православных похоронах вообще, начиналось под звуки церковного пения «Святый Боже»). На фоне похоронного марша звучали краткие выступления агитаторов (в дореволюционном варианте на этом этапе должна была состояться лития). Поскольку демонстрация имитировала похороны, колонны шли к братской могиле на Октябрьской площади, ставшей новым сакральным местом. Здесь делалась остановка, устраи- вался митинг, заменивший православное отпевание. Затем, в соответствии со сложившимся «красным» погребальным ритуалом, исполнялись похоронный марш и Интернационал (мы уже отметили, что музыкальный компонент неотделим и от традиционных похорон). Толпа хором пела «Вы жертвою пали в борьбе роковой, за вами идет свежих ратников строй». В руках собравшихся пылали факелы, развевались на ветру красные флаги, искрились бенгальские огни, заменившие традиционные для православных похорон свечи 9. Был создан необходимый эмоциональный фон для того, чтобы жители Новониколаевска, как и других городов, ощутили личное участие в похоронах и прочувствовали драматизм момента. В заключение траурного митинга в Новониколаевске один из ораторов сказал: «Дорогой товарищ Ленин, ты долго служил для блага народа и мы, твои ученики, тебя на кладбище снесли» 10.
Ильич умер «своей смертью», но драматизм похоронного сценария героя не мог обойтись без религиозных мотивов мученичества в речах собравшихся. Этот шаблон, многократно применявшийся в предыдущие годы на «красных» похоронах жертв и «героев» Гражданской войны, стал непременной чертой «красных» похорон. Митинговавшие говорили: «Ты замучен тяжелой болезнью, трудной и длительной работой». Дело революции было названо на этом митинге «святым». Озвучена была и вера в то, что « наш учитель… сейчас пойдет к ранее павшим борцам, к своим ученикам» 11. Это высказывание соответствует еще языческим представлениям о встрече в загробном мире душ умерших. Неоднократно звучала церковная формулировка: «Вечная память и вечный покой!». Использован был и еще один важный элемент традиционного обряда погребения, особенно развитый в романтической традиции – клятва на могиле. На братской могиле земляков, которая символически стала теперь для новониколаевцев и могилой вождя, жители города клялись не отступать от идеалов ленинизма. В этот момент было словно включено новое хронологическое мерило: день смерти вождя стал для трудящихся контрольной датой, когда
-
9 ГАНО. Ф. П-10. Оп. 1. Д. 1006. Л. 65.
-
10 Там же.
-
11 Там же. Л. 63.
они отчитывались о своих экономических и политических достижениях за срок, истекший с того момента, когда страна осталась «без Ленина». При этом чувствуется, что по ассоциации с традицией рабочие и крестьяне держали отчет не только перед правительством и народом, но и перед усопшим вождем, с которым часто выстраивали воображаемый диалог докладчики, выступавшие на собраниях и торжественных заседаниях.
При опускании гробов царей и великих князей в могилы обычно давали залп салюта 12, со времен Петра I палили пушки, а еще ранее традиционным стало сопровождение опускания гроба колокольным звоном [Логунова, 2010. С. 112]. Залп салюта всегда давали и на «красных» похоронах, подчеркивая особые заслуги усопшего, символически приравнивая его к числу тех, кого признавали героями. По воспоминаниям очевидцев, в ночном Новониколаевске с каланчи на городском корпусе раздавался гул колокола, прозвучало восемь ударов, обозначивших время погребения [Лавров, 1977. С. 42]. Салют прогремел по всей стране в 16 часов по московскому времени 26 января 1924 г. при вносе тела В. И. Ленина в мавзолей. Тогда же все фабрики и заводы, а также паровозы, мельницы и лесопилки издали трехминутный гудок. Этот подчеркнуто пролетарский элемент ритуала дополнил традиционный звуковой фон похорон лидера государства. Во время гудка, звучавшего на ленинских похоронах, на пять минут все трудящиеся прекратили работу. Аналогичным образом прощались с вождем жители Омска, Томска и Барнаула, где на траурные демонстрации строем вышли десятки тысяч человек [А. Н., 1926. 22 янв.].
Очевидно, усилия агитпропов не пропадали даром. Многие не только искренне скорбели, проливали слезы, собирали деньги на памятники, сочиняли песни и стихи о вожде, вышивали полотенца и плели венки для его «могилы». Уже в марте 1924 г. был зафиксирован резкий рост количества заявлений от людей, желавших вступить в партию. В целом по Новониколаевской, Томской, Алтайской и Омской губерниям только за один месяц поступило 2 976 подобных заявлений 13. Массовые проводы вождя в последний путь должны были про- изводить сильное эмоциональное впечатление не только на убежденных большевиков, но и на людей, которые были мало задействованы в политической жизни, на беспартийных, на молодежь, на тех, кто стоял в толпе в качестве зевак, на тех, кого заставили прийти на прощание агитаторы. Траурные коммеморации были ориентированы на формирование среди населения преданности партии, «делу Ленина», идеалам революции в трактовке, актуальной для носителей власти. Они служили выражению политической солидарности граждан, мобилизации общества на достижение успехов экономического развития страны. Ритуал прощания служил и легитимации власти, которая со смертью вождя обретала еще более «великую», «героическую» историю.
В 1925 г. отмечалось сразу несколько памятных дат, связанных с именем В. И. Ленина. 22–23 апреля праздновали день его рождения. В рабочих клубах, театрах, школах проходили соответствующие тематические вечера. 30 августа траурными вечерами отмечали годовщину покушения на вождя 14. Но самые масштабные мероприятия развернулись в связи с годовщиной смерти Ленина. В январе 1925 г. была организована «Неделя памяти вождей». Дни с 21 по 26 января стали кульминацией целого «праздничного каскада», который открывало 100-летие восстания декабристов. Сразу следом за этим праздником 1 января 1925 г. устроили торжества по поводу 20-го юбилея декабрьского вооруженного восстания в Москве; день гибели К. Либкнехта и Р. Люксембург организованно вспоминали 15 января; 21 января отметили день кончины В. И. Ленина; 22 января – 20-летний юбилей Первой русской революции; 26 декабря вспоминали похороны вождя 15. В последующие годы продолжали объединять памятные даты. К примеру, в 1936 г. «Ленинские дни» соединили с празднованием годовщины революции 1905 г. 16 После 1925 г. дни рождения Ленина также отмечались тематическими вечерами, но в календаре эта дата не была отмечена как «праздничная» [Щербинин, 2008. С. 57].
Еще в досоветскую эпоху в городах Российской империи сложился сценарный шаб-
-
14 Там же. Ф. П-10. Оп. 1. Д. 1007. Л. 99.
-
15 ГААК. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 45. Л. 3.
-
16 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 45. Л. 3.
лон политических праздников, который включал военный парад, крестный ход, торжественную литургию или молебен, торжественное заседание городской думы, собрания в клубах, народные чтения и бесплатные театральные постановки на исторические, политические и религиозные темы. Эта схема, отработанная десятилетиями, использовалась также в советское время для организации государственных праздников и торжеств, связанных с памятными датами. В дни памяти В. И. Ленина не устраивался лишь военный парад. Остальные сценарные элементы торжества легко адаптировались к новой памятной дате и новой идеологической системе: крестный ход заменили демонстрацией с инсценировками, молебен преобразовали в митинг, обязательными были торжественные заседания горсовета, собрания в рабочих клубах, бесплатные театральные постановки и показы кино.
В 1920-х гг. ленинские дни стандартно предварялись вечерами воспоминаний. Их организация опиралась на традиционную практику дореволюционных праздничных тематических народных чтений в гимназиях, библиотеках и клубах. В середине 20-х гг. на вечерах обязательно звучал доклад о достижениях советского народа за период «уже без Ленина», зачитывались заранее отобранные агитпропами отрывки воспоминаний о вожде его соратников, декламировались политические стихи, агитаторами раскрывались в докладах темы «Ленин и кооперация», «Ленин и Коминтерн», «Троцкизм» и пр. 17 В программу вечера могли включаться развлекательные элементы: демонстрация слайдов диапозитивом, физкультурные номера, инсценировки, песни и т. п.
Однако не всегда в 1920-х гг. вечера проходили в мажорной эмоциональной атмосфере. К примеру, рабочие Барнаульского лесозавода в 1926 г. устроили вечер, сохранивший элементы траура, поминального обряда. Они украсили свой клуб черными и красными флагами, начали мероприятие с прослушивания траурного марша [Траурный вечер…, 1926. 27 янв.]. Случалось, что в конце вечера воодушевленные рабочие принимали резолюцию о перечислении средств на нужды культурной революции или иные государственные программы [Кто и как готовится…, 1929. 19 янв.]. К подобным мероприятиям активно привлекались беспартийные граждане, многие из которых вскоре официально изъявляли желание вступить в партию. Заметно, что в 1920-х гг. эмоциональный фон вечеров воспоминаний о вожде, проходивших в западносибирских городах, еще имел различные оттенки, не подчинялся строго единому стандарту. Главным было «произвести живое, глубокое впечатление» 18. Поэтому иногда организаторы вечеров еще вполне традиционно «поминали» В. И. Ленина.
В следующем десятилетии места скорби на вечерах воспоминаний оставалось все меньше. Так, уже в 1930 г. основной задачей комсомольских вечеров стала проработка решений декабрьского пленума ЦК 19. В 1934 г. вечера воспоминаний дополнялись газетными публикациями с рассказами о прощании сибиряков с вождем десятью годами ранее (см.: [Омск в дни траура в 1924 г., 1934. 21 янв.] и др.). На «траурных собраниях» устраивались читки литературных монтажей, повторялись рассказы о встречах Ленина с рабочими и детьми. К участию в вечерах привлекались «опытные беседчики» для обсуждения политических тем, «старые» рабочие, рассказывавшие истории о положении рабочих при капитализме 20. Усиливалась зрелищность мероприятий. В практику вошла организация общегородских пионерских костров с демонстрациями самодеятельных номеров и пением революционных песен [Памяти любимого вождя, 1938. 26 янв.].
В 1925 г. в день годовщины со дня смерти В. И. Ленина в городах прошли колонны демонстрантов. На этих мероприятиях уже не было места скорбным переживаниям. В Новониколаевске демонстранты остановились у здания Сибревкома. Там была принята присяга воинских частей, состоялся митинг, начался карнавал, где были представлены инсценировки из трех картин: «Маевка в царское время», «Маевка на западе», «Маевка в СССР» (не очень логично для января). Интересно то, что, по сути, печальная памятная дата рассматривалась агитпропом как веселый праздник. Задачей карнавала было «насыщение улицы злобо- дневным политическим содержанием, сатирой, смехом, яркими переживаниями». Темы, предлагавшиеся для карнавальных воплощений, были далеки как от скорби, так и от фигуры самого Ленина: «Крах эры пацифизма», «Жилищный кризис по-польски», «Кооперация и крестьянство». Единственная тема, содержавшая в себе коммеморативную составляющую – это «Каторжане, осужденные за маевку» (вновь тема маевки в январе) 21. Разумеется, за этой идеологической карнавальной кутерьмой терялась личность вождя, не оставалось места скорби. Праздничный лозунг «Умер Ленин – жив ленинизм» воплощался в праздничном действе с максималистской буквальностью.
По дореволюционному образцу горсоветы, как ранее городские думы, устраивали торжественные заседания, посвященные памяти вождя. И хотя траурный марш в начале таких мероприятий, в 1924 г., исполнялся, когда тело вождя еще не было даже внесено в Мавзолей, на подобном заседании в Новониколаевске прозвучало: «В наших рядах не должно быть паники. Довольно петь похоронный марш! Будем петь Интернационал – песню победы» 22. Заседания горсоветов уже не были похожи на поминки. Они использовались для политического просвещения, для усиления «сплочения масс». Так, в 1927 г. на траурном заседании в городском театре Омска звучал официальный доклад о биографии В. И. Ленина, плавно перетекавший в характеристику политической ситуации в стране [Три года без Ленина, 1927. 25 янв.]. С началом сталинских пятилеток эти собрания использовались для идеологического продвижения идей досрочной реализации пятилетних планов. С середины 1930-х гг. на таких заседаниях все больше внимания уделялось не самому Ильичу, а отчетам об успехах социалистического строительства, И. В. Сталину как «гениальному» продолжателю дела В. И. Ленина. Во второй половине 1930-х гг. имя Сталина приветствовали вставанием и аплодисментами, его заочно избирали главой президиума, в его честь пели гимн и «Интернационал» [Траурный пленум…, 1937. 23 янв.], завершали заседания составлением типичных «приветственных телеграмм товарищу Сталину» [Памяти великого Ленина, 1937. 21 янв.].
К памятным дням в соответствии с традицией были приурочены многочисленные переименования. В Новониколаевске в 1924 г. Октябрьскую площадь переименовали в площадь Ленина, Вокзальный район временно переименовали в Ленинский 23. Однако власть изначально дала установку – стараться не переименовывать старые памятники, а создавать новые. Известно, что Н. К. Крупская была противницей установления памятников В. И. Ленину и строительства дворцов его имени. Она полагала, что «подлинными памятниками» первому советскому вождю должны стать новые социальные учреждения [Пейн, 2005. С. 641]. Открытие школ, больниц, богаделен в память о царях и выдающихся государственных деятелях широко практиковалось и до революции. В память о Ленине также было создано множество социальных учреждений, иные из которых открывались в январские торжественные дни. К примеру, детский сад на 20 мест открылся в Новосибирске в 1926 г. [Открытие детского сада…, 1926. 22 янв.]
Вопреки желанию Крупской, первые скульптурные памятники вождю появились еще при его жизни. Лениниана последующих лет считается стихийным процессом, инициированным преимущественно «снизу», в соответствии с особенностями русского менталитета и русской родовой традиции [Андрианова, 2008. С. 120]. Массовое открытие памятников Ленину отвечало также и уже сложившейся до революции традиции увековечивания памяти об императорах в юбилейные годы важнейших событий истории Дома Романовых и о других выдающихся людях в годовщины их рождения и смерти. Официальное начало Лениниане в монументальном искусстве было положено постановлением «О сооружении памятников В. И. Ленину», принятым на Втором Съезде Советов ССР 26 января 1924 г. После этого по всей стране началось установление памятников вождю, многие из которых открывали в дни политических праздников.
Мемориальные инициативы сибиряков, приуроченные к дням памяти вождя, были разнообразными, но наиболее грандиозным памятником вождю, открытым к годовщине его смерти, стал знаменитый Дом Ленина в Новониколаевске (Новосибирске). Решение о его строительстве было принято уже в феврале 1924 г. Архитектурному решению и строительству Дома Ленина посвящено немало исследований [Баландин, 1978. С. 74– 77; Усольцева, 1975]. Историки архитектуры подчеркивали масштабность замысла памятника, оперативность крайне тяжелых строительных работ и важность открытия недостроенного сооружения к памятной дате. Газетная печать так объясняла замысел памятника: «В каждом углу этого дома чувствовалось бы дыхание творческой мысли Ленина и заметно ощущалось бы биение его живой жизни, чтоб, войдя в этот дом, каждый сразу начинал проникаться коммунистическим сознанием» [Каким будет Дом Ленина, 1924. 16 марта]. Торжественное открытие памятника, как и прощание с В. И. Лениным годом ранее, было устроено ночью, в 22 часа 50 минут [Новониколаевский день, 1925. 24 янв.]. Парадный зал, еще толком не отделанный, вместил 2 тыс. человек. Началась театрализованная церемония. В зале была создана атмосфера, необходимая для мысленного возвращения в день похорон вождя: звучала запись грохота орудий, гудки фабрик, заводов и пароходов. Далее собравшиеся почтили минутой молчания и вставанием память В. И. Ленина. В полумраке зазвучал траурный марш. Одновременно на площади у Дома Ленина орудия 20 раз дали залп огня. После этого в зале включили яркий свет, начался митинг [Траурная годовщина…, 1925. 24 янв.]. Интересно то, что докладчики, выступавшие на митинге, вспоминали не самого Ленина как человека и вождя революции, а его похороны. По нашему мнению, агитаторы пытались мысленно вернуть представителей местных органов власти, от которых зависела эффективность реализации советской политики в Сибири, к тому моменту, когда считалось, что вся страна переживала боль утраты и торжественно клялась посвятить жизнь служению идеалам революции. Митинг завершился хоровым пением жизнеутверждающего Интернационала, закреплявшего веру в «светлое будущее» и правильность избранного пути к этому будущему [«Сердце Новониколаевска»…, 1925. 24 янв.; Траурная годовщина…, 1925. 24 янв.].
Остановимся на политике памяти государства, влиявшей на специфику торжеств разных лет. Сам В. И. Ленин считал, что организаторы памятных мероприятий, по- священных великому человеку, должны всегда связывать память о человеке с революционными задачами [Андрианова, 2008. С. 70]. Заметно, что еще до «великого перелома» фигура вождя в контексте памятных торжеств рассматривалась утилитарно. Во-первых, это проявлялось в том, что власть стремилась внедрить в общественное сознание не память о Ленине как человеке, а представление о нем, как о символе революции. Во-вторых, дни памяти преподносились не как дни скорби, но как праздники. Со временем обе эти тенденции усиливались. Власть стремилась подчеркнуть, что Ленин умер не напрасно, его дело живо и ведет общество к новым достижениям и успехам. Историк Б. Энкер считает, что дни памяти В. И. Ленина служили знаком революционной преемственности, принципиальности, легитимности, социальной мобилизации масс [Энкер, 2011. С. 391, 394]. Через ритуал памятного торжества народ должен был почувствовать себя наследником Ленина, признать партию в качестве его преемницы.
После 1927 г. празднества были ориентированы не на прошлое, а на современность [Малышева, 2005. С. 13]. В 1930-е гг. в коммеморативные практики, связанные с В. И. Лениным, вводится фигура И. В. Сталина. В газетных репортажах с торжественных заседаний горсоветов, проходивших в «Ленинские дни» второй половины 1930-х гг., журналисты уделяли больше внимания эпизодам чествований Сталина, нежели формам коллективных воспоминаний о Ленине. Это было необходимо для создания видимости революционной преемственности между политикой двух вождей – мертвого и живого. В этом контексте было выгодно максимально обобщить образ Ленина, лишить его индивидуальных «человеческих» характеристик. Поэтому на мероприятиях, посвященных воспоминаниям об Ильиче, не заострялось особого внимания на деталях его революционной биографии и политики.
В заключение обратимся к полемике, которая существует в литературе, посвященной культу В. И. Ленина. Немецкая исследовательница Н. Тумаркин видит в практиках, связанных с памятью о Ленине, прежде всего религиозные истоки. По ее мнению, власть намеренно эксплуатировала религиозные мотивы и практики, придавая им лишь внешне новые формы [1997]. Б. Энкер отвергает это мнение, настаивая на политическом прагматизме большевиков, их намеренном отказе от религиозности в ритуале прощания и материалистическом подходе к формированию коммеморативных практик. По мнению Энкера, большевики ориентировались скорее на дореволюционные придворные церемониалы и формы социал-демократических похоронных торжеств, что подтверждает и наше исследование. Но следует добавить и то, что на улице, за пределами зала торжественного заседания горсовета советские агитаторы не могли справиться с эмоциями толпы, ощущавшей себя на традиционных похоронах. Ораторы, которые должны были акцентировать внимание на бессмертии дела партии, на актуальных политических задачах, фактически не могли сосредоточиться на том, что следовало сказать. Говорили так, как им подсказывал жизненный опыт, сопряженный с традицией, и находили понимание демонстрантов.
Позже дни памяти В. И. Ленина утратили стихийное эмоциональное начало, стали стандартными и однотипными. В дальнейшем носители власти должны были вести неустанную работу над формированием в общественном сознании «правильного» образа вождя и «правильного» отношения к его памяти, ведь на заре советской эпохи далеко не все верили в долговечность правления большевиков. Еще многие сомневались в добродетельности вождей, в грандиозности масштабов их революционной деятельности и не воспринимали кончину Ленина как эпохальное событие. В будущем проявятся стремления власти «воспитывать несознательных», внушая им набор стандартных формулировок, и, если это не поможет, репрессировать. Пока же именно выходившее из-под контроля власти грандиозное торжественное действо, имитировавшее похороны Ленина, ошеломляло и воодушевляло огромное количество людей, шедших за большевиками на эмоциональном подъеме. Идеологическое воздействие этого прощания оказалось весьма действенным: через ритуал многие искренне утвердились в своей солидарности с большевиками, ощутили «величие» исторического момента, собственную причастность к этому моменту, а также личную ответственность перед товарищами, властью и вечностью, в которую символически ушел «Великий Ленин». Безусловно, в массе демонстрантов не могло не остаться и тех, кто воспринял торжества со скепсисом и без особенного воодушевления. Видимо, сложность дальнейшей работы с этим контингентом, необходимость корректировки его взглядов и вели к стандартизации форм торжеств последующих лет, к утрате их реальной связи с революционной историей и биографией Ленина. Власти неустанно работали над закреплением в живой коллективной памяти «правильной» фигуры В. И. Ленина. Однако упрощение и обобщение образа вождя, транслировавшегося в массы, лишали его ассоциаций с реальным человеком, делали живую память о Ленине скучной и слишком стандартной.
Список литературы Прощание с В. И. Лениным и дни памяти вождя в административных центрах Западной Сибири (1924–1941 годы): коммеморативные практики
- А. Н. Сибирь в трауре // Сов. Сибирь. 1926. 22 янв.
- Андрианова Н. Ю. Концепция «пролетарской культуры» и монументальная Лениниана как отражение идеологических установок в обществе в первые годы советской власти (1917-1927). М.: Триадафарм, 2008. 142 с.
- Баландин С. Н. Новосибирск: история градостроительства (1893- 1945 гг.). Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. 136 с.
- Бонч-Бруевич В. Д. Смерть и похороны Владимира Ильича (по личным воспоминаниям). М.: Жизнь и знание, 1925. 39 с.
- Зазубрин В. Я. Смерть // Сибирские огни. 1924. № 1. С. 3-6.
- Каким будет Дом Ленина // Сов. Сибирь. 1924. 16 марта.
- Красильникова Е. И. Похороны как аспект городской повседневности (по материалам западносибирской газетной прессы первой половины 1920-х гг.) // Социальная история: Ежегодник-2010. СПб., 2011. С. 223-250.
- Кручина А. День траура // Сов. Сибирь. 1924. 24 янв. Кто и как готовится к ленинским дням // Красный Алтай. 1929. 19 янв.
- Лавров И. М. Мои бессонные ночи. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977. 688 с.
- Логунова М. О. Траурный церемониал в Российской империи // Власть. 2010. № 3. С. 111-115.
- Малышева С. Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917-1927). Казань: Рутен, 2005. 400 с.
- Новониколаевский день // Сов. Сибирь. 1925. 20 янв. Омск в дни траура в 1924 г. // Рабочий путь. 1934. 21 янв.
- Открытие детского сада на 20 человек в память Ильича // Cов. Сибирь. 1926. 22 янв.
- Памяти великого Ленина: заседание в Областном театре // Омская правда. 1937. 21 янв.
- Памяти любимого вождя // Алтайская правда. 1938. 26 янв.
- Пейн Р. Ленин: жизнь и смерть. М.: Молодая гвардия, 2005. 667 с.
- Пушкарев Г. Ленин помер // Сибирские огни. 1924. № 1. С. 173.
- Ральф М. Советские массовые праздники. М.: РОССПЭН, 2009. 438 с.
- Рябов В. В. В дни всенародной скорби…: по страницам отчета Комиссии по увековечиванию памяти В. И. Ульянова (Ленина) // Вопр. истории КПСС. 1988. № 5. С. 98-108.
- Савельева И. М., Полетаев А. В. Социальные представления о прошлом: типы и механизмы формирования. М.: ВШЭ, 2004. 56 с.
- «Сердце Новониколаевска»: открытие дома им. В. И. Ленина // Сов. Сибирь. 1925. 24 янв.
- Собрание памяти Ильича в Клубе печатников // Сов. Сибирь. 1924. 24 янв.
- Траурная годовщина открытия Дома Ленина // Сов. Сибирь. 1925. 24 янв.
- Траурный вечер у древоотделочников // Красный Алтай. 1926. 27 янв.
- Траурный пленум Новосибирского горкома ВКП(б) и Горсовета в «Красном факеле» // Сов. Сибирь. 1937. 23 янв.
- Три года без Ленина // Рабочий путь. 1927. 25 янв.
- Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. СПб.: Академ. проект, 1997. 287 с.
- Усольцева Л. С. Дом Ленина, сквер Героев революции. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1975. 75 с.
- Шеррер Ю. Отношение к истории в Германии и Франции: проработка прошлого, историческая политика, политика памяти // Pro et contra. 2009. Май - август. С. 89-108.
- Щербинин А. И. «Красный день календаря»: формирование матрицы восприятия политического времени в России // Вестн. Томск. гос. ун-та. Серия: Философия, социология, политология. 2008. № 2. С. 52-69.
- Энкер Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе. М.: РОССПЭН, 2011. 437 с.