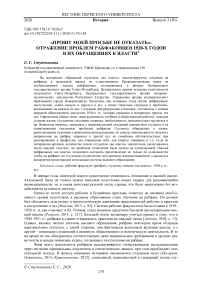"Прошу моей просьбе не отказать": отражение проблем рабфаковцев 1920-х годов в их обращениях к власти
Автор: Студеникина Е.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Письма "Во власть"
Статья в выпуске: 3 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
На материалах обращений студентов «во власть» демонстрируется ситуация на рабфаках в начальный период их существования. Проанализированы ранее не опубликованные письма рабфаковцев, отложившиеся в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Центрального архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива историкополитических документов Республики Татарстан, Управления архива муниципального образования города Новороссийска. Выделены три основных этапа жизни рабфаковцев: поступление, учеба, выпуск и переход в вуз, а также типичные ситуации и проблемы, возникавшие на каждом из них. Ситуации, фигурирующие в письмах, соотнесены с темами широкой общественной дискуссии 1920-х гг., которая отражена в материалах прессы тех лет. Определены общие темы: перегруженность учебной и общественной работой, тяжелые условия жизни, ухудшение состояния здоровья, необходимость дополнительно трудиться и пр. Выявлены вопросы, связанные с индивидуальной ситуацией конкретного студента и не затрагивающие системные проблемы рабфаков. Студенты обращались к лицам, располагавшим нужными управленческими ресурсами, по поводу невозможности получить направление на рабфак, перевода в другой вуз по семейным обстоятельствам, при разочаровании в профессии, для оправдания себя, для защиты товарища и т.д. Судя по материалам архивов, количество писем студентов «во власть» значительно увеличивалось после каждой «чистки», но проблема отчисления была далеко не единственной. Письма рабфаковцев «во власть» позволяют составить представление не только об особенностях учебы на рабфаке, но и о жизни студенчества того времени, взаимоотношениях учащихся и восприятии пролетарской молодежью системы высшего образования.
Рабочий факультет (рабфак), студенты, письма "во власть", 1920-е гг, вуз
Короткий адрес: https://sciup.org/147246318
IDR: 147246318 | УДК: 930:378.14”1920-е” | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-3-175-185
Текст научной статьи "Прошу моей просьбе не отказать": отражение проблем рабфаковцев 1920-х годов в их обращениях к власти
В первые годы советской власти существенно изменилось отношение к высшей школе. Актуальной была не только задача массовой подготовки новых кадров для развивающейся промышленности, но и смена интеллектуальной элиты страны, что было невозможно без воздействия на вузовскую систему.
Одним из путей доступа рабочих и беднейших крестьян, зачастую не имевших необходимого уровня подготовки, к высшему образованию стало обучение на рабфаке. Он должен был обеспечить подготовку и психологическую адаптацию представителей рабочих и крестьян к поступлению в вуз [ Власова , 2013, с. 93]. Система рабочих факультетов была создана в 1919– 1920 гг. и, как отмечает А.Ю. Рожков, стала мощным средством быстрой пролетаризации высшей школы [ Рожков , 2014, с. 217]. Большой поток желающих учиться привел к тому, что в 1920–1921 гг. рабфаки в стране открывались практически каждый месяц [ Аюбова , 2010, с. 13]. Однако, являясь частью системы высшего образования, рабфаки некоторое время обладали маргинальным статусом: с одной стороны, они фактически выполняли функции школы, а с другой – вовлекали слушателей в активную общественную и политическую деятельность. В то же время не все абитуриенты соответствовали даже минимальным требованиям к уровню грамотности и вскоре появились курсы, готовящие к поступлению на рабфак.
Чаще всего деятельность рабфаков рассматривается отечественными исследователями через изучение официальных документов и статистических данных, при этом преобладает описательный подход. В фокусе внимания историков оказываются отдельные вузы [ Нагорная, Остапенко , 2013; Кривоноженко , 2012], социальный, национальный и гендерный состав слу-
шателей [ Горбушина , 2011], место рабфаков в образовательной системе страны [ Власова , 2013; Стребкова, 2017; Кривоноженко , 2016], а также их «вписанность» в политические реалии того времени [ Барунов , 2010]. Ряд исследователей обращают внимание на роль рабфаков в формировании национальной интеллигенции отдельных районов: Башкирии, Волго-Вятского региона, Чечни, Дагестана, Якутии, Карелии и др. Преобладание в данных регионах сельского населения, традиционный уклад жизни, влияние религиозных деятелей и низкий уровень грамотности широких масс превращали рабочие факультеты в востребованный канал доступа к высшему образованию для местной молодежи и надежный источник формирования управленцев и интеллигенции нового типа для государства. Кроме возможности поступления на национальные рабочие факультеты существовала бронь для нацменьшинств на обычные [ Хадимуллина, Хади-муллин , 2015; Горбушина , 2011; Матагова , 2009; Аюбова , 2010; Неруш , 2020; Панин , 2013]. В зону внимания отечественных историков также попадают рабфаки крупных вузовских центров, в первую очередь Москвы и Ленинграда [ Сергачев , 2006; Кривоноженко , 2012]. При этом основными источниками информации в статьях и диссертациях служат партийные документы соответствующего периода, статистические данные, документы вузов (приказы, отчеты, протоколы и т.д.), а также материалы периодической печати [ Сергачев , 2006].
Эпистолярные источники рабфаковцев, в том числе письма «во власть», как непосредственные свидетельства о восприятии и оценке событий, участниками которых были авторы писем, к сожалению, остаются без внимания историков. В то же время письма молодых людей вождям, руководству вуза, уполномоченным Наркомпроса, в партийные и комсомольские органы и другие облеченные властью инстанции, на наш взгляд, являются важным источником информации о рабфаках в первое десятилетие их существования.
В настоящей статье исследуются презентации проблем рабфаковцев в переписке с властью в 1920-е гг. с целью показать ситуацию на рабфаках «изнутри» – глазами людей, которые внезапно обрели шанс получить высшее образование и пытались максимально его использовать. Эпистолярные документы в данном случае ценны тем, что отражают не позднее осмысление событий, а момент острого переживания какой-либо сложной ситуации. Письма «во власть» в отличие от дневников свидетельствовали о признании неспособности разрешить самостоятельно возникшие проблемы и необходимости обратиться к лицам, обладавшим нужными управленческими ресурсами. Апелляция к властям была шансом (иногда последним) переломить ситуацию в свою пользу, поэтому события излагались с выгодной для автора стороны, а само письмо (с небольшими вариациями) иногда отправлялось сразу нескольким адресатам (например, руководству вуза, наркому просвещения и др.)
Источниками исследования послужили письма рабфаковцев, хранящиеся в архивах Санкт-Петербурга, Казани, Новороссийска. Многие из них являются типичными и касаются широко распространенной ситуации (например, проблемы зачисления или отчисления в связи с «чисткой», участия в партийной или комсомольской работе), другие же достаточно оригинальны. Так как письма адресованы незнакомым и достаточно авторитетным людям, все они содержат элементы самопрезентации. Зачастую подобные обращения позволяют составить представление не только об учебе автора на рабфаке, но и обо всей предыдущей жизни, а иногда о планах на дальнейшую жизнь. Как и любой личный документ, письмо «во власть» дает субъективную картину реальности, при этом вольно или невольно отражает повседневную жизнь и нужды автора.
Оценивая социальные и демографические характеристики слушателей рабочих факультетов по данным обращениям, следует понимать, что в подобных письмах четко прослеживается тенденция получения социального одобрения, а иногда и спекуляция своим социальным статусом. Кроме того, как справедливо отмечают А.Я. Лившин и И.Б. Орлов, не нужно воспринимать письма «во власть» как адекватное отражение общественного сознания [ Лившин , Орлов, 1999, с .100]. Отправляя письмо власть имущим, автор его стремился в первую очередь решить свою конкретную проблему, высказать свою точку зрения, а не максимально точно описать некие факты.
В то же время есть особенности данных обращений «во власть», которые могут быть оценены достаточно объективно. Так, изученные письма рабфаковцев позволяют судить об уровне образования авторов, зачастую очень низком по сравнению с образованием студентов вузов. Некоторые письма претендующих на зачисление молодых людей могут быть отнесены к категории «наивного письма» с большим числом ошибок, повышенной эмоциональностью и «перескакиванием» с темы на тему. Документы, как правило, сочетают в себе разговорный язык с шаблонными обращениями «настоящим прошу вас», «довожу до Вашего сведения» и др. Однако, даже имея некоторые представления о структуре официального письма, рабфаковцы часто склонны отказываться от него в пользу неформального стиля. Таковы обращения как к конкретному лицу, так и в комиссию по чистке (м., 1925): «…С величайшим оскорблением я узнал об исключении меня с рабочего факультета <…> прошу не откладывать мое заявление, не прочитавши его содержание, может быть вся моя судьба решается в нем» (ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 434. Л. 352-353 об.).
Хотя вузы, в которых обучались авторы рассматриваемых писем, расположены в европейской части России, сами студенты были выходцами из разных регионов. Кроме того, в таких крупных вузовских центрах, как Ленинград и Казань, были национальные отделения рабфаков (чаще при педагогических вузах), например, марийское, эстонское и др.
Анализ архивных фондов затруднен тем, что крайне редко письма рабфаковцев выделяются в отдельные дела, гораздо чаще они смешаны с обращениями студентов и/или других граждан в те или иные органы власти. Достаточно широко изучаемая нами категория писем представлена в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (Фонд Р-2556. Управление Уполномоченного Народного комиссариата просвещения РСФСР по делам вузов, рабфаков, научно-художественных и музейных учреждений Ленинграда. 1920-1931), Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга (Фонд Р-16. Ленинградский губернский комитет ВКП(б). 1917–1927), отдельные письма имеются в Центральном государственном архиве историко-политических документов Республики Татарстан (Ф. 181. Горрайком ВЛКСМ), а также в Управлении архива муниципального образования город Новороссийск (Р-17. Отдел народного образования исполнительного комитета Черноморского окружного Совета рабочих, крестьянских, казачьих, красноармейских и флотских депутатов).
Следует отметить, что частично «рабфаковские» проблемы были схожи с трудностями других студентов. Однако было бы заблуждением отождествлять рабфаковцев по социальному статусу, образу жизни и социальному облику со значительной частью студенчества, особенно непролетарского происхождения. Рабфак был всего лишь ступенькой на пути к вузу, и уровень образования там был несравнимо ниже вузовского. В силу специфики набора рабфаковцы в отличие от студентов были более однородны в социальном плане и лояльны властям. Большинство их сохраняло связь с предыдущим местом работы/жительства, куда они чаще всего планировали вернуться. Обучавшиеся на вечернем отделении получали право работать сокращенный день. Выпускников рабфаков в первое время принимали в вузы без вступительных испытаний, если же уровень образования даже после окончания обучения был слишком низок, рабфаковец получал направление не в вуз, а в техникум, но такие случаи были единичны. В отличие от большинства студентов вузов все рабфаковцы были обеспечены стипендиями и общежитиями.
Специфика рабфака как структурного подразделения вуза состояла не только в несколько ином преподавательском составе, но и в системе обучения, ориентированной на самостоятельную и групповую работу, так как воспринимать исключительно лекционный материал слушателям было трудно. Испытывая на первых порах сложности с обеспеченностью учебным оборудованием и аудиториями, рабфаковцы в то же время находились в привилегированном положении в плане получения социальной поддержки государства.
Особый статус рабфаковца (который получил уникальный шанс стать студентом, но еще не реализовал его) осознается авторами писем «во власть» и подчеркивается в публикациях 1920-х гг. Уже в первые годы существования рабфаков в прессе разворачивается дискуссия об их задачах, проблемах и перспективах. В ней принимают участие рабфаковцы, студенты вузов, преподаватели, руководящие работники и общественные деятели. Сравнивая письма «во власть» с материалами советской прессы 1920-х гг., мы можем разделить личные и системные трудности, а также выявить специфику официальной и неофициальной презентации ситуации на рабфаке в первое десятилетие его существования.
Создание системы рабфаков привело к целому ряду социальных последствий. В частности, рабочие факультеты превратились в мощный канал социальной мобильности, открывав- ший возможности, ранее недоступные для малообразованной части молодежи. Получение востребованной и более высокостатусной, чем нынешняя, специальности, переезд из деревни в город, возможность в перспективе заниматься не физическим, а интеллектуальным трудом – все эти преимущества осознавались молодыми людьми, и они прилагали массу усилий для получения заветной «командировки» на рабфак. Далеко не все абитуриенты адекватно оценивали свои возможности и уровень подготовки, но преимущества рабфака как трамплина для поступления в вуз были ими быстро поняты. Не пытаясь вникнуть в тонкости механизма распределения мест, но привлеченные возможностью получения высшего образования и, соответственно, повышения своего социального статуса, они активно пишут «во власть», настаивая на своем праве учиться.
Среди эпистолярных документов 1920-х гг. мы обнаруживаем немало писем молодых людей, желающий попасть на рабфак. Кто-то обращался с этой просьбой впервые, кто-то уже получил отказ (в связи с нехваткой мест или «непролетарским» происхождением), но надеялся переубедить высокопоставленного адресата, а кто-то даже вступал в длительную переписку с органами власти, пытаясь настоять на своем праве на обучение.
Первичные просьбы, как правило, лаконичны. Авторы обращений заявляют о своем желании учиться и формальном соответствии предъявляемым к кандидатам на рабфак требованиям (м., 1928): «…Прошу принять меня на курсы по подготовке вуз <…> В наст[оящее] время я учусь на последнем курсе Политехнической школы ФЗУ им. Луночарского. Прошу моей просьбе не отказать» (орфография и стиль документа сохранены) (ЦГА ИПД РТ. Ф. 181. Оп. 1. Д. 78. Л. 7 об.).
В случае, если направление на рабфак по каким-либо причинам не было получено, обращения приобретают более развернутый и мотивированный характер. В качестве аргументов кроме желания получить образование авторы приводят доказательства своего пролетарского происхождения и/или собственной работы на заводах и фабриках. Дополнительные преимущества, на их взгляд, должны были давать членство в партии, комсомоле и полное согласие с линией партии, а также заслуги перед страной (участие в Гражданской войне и полученные там ранения, политическая и идеологическая работа в общественных организациях и т.д.). Реже указываются другие факторы: состояние здоровья, препятствующее занятию физическим трудом, но годное для труда умственного, потенциальная польза для общества, если именно этот молодой человек получит высшее образование, и достаточно откровенные заявления о своем желании изменить социальный статус на более высокий.
Так, житель одной из деревень Ленинградской губернии обращается в Управление Наркомпроса по рабфакам, используя сразу несколько аргументов (м., 1927): «Как инвалид <…> к физическому труду я не способен, а учиться я могу, а следовательно, через ученье могу из совершенно негодного человека превратиться в полезного. <…> по социальному происхождению и положению (бедняк) я вполне заслуживаю право поступления на путь науки» (ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 666. Л. 58).
Формулировка о самопроизвольно присвоенном «праве» учиться на рабфаке встречается в письмах довольно часто (м., 1922): «…По своему происхождению я имею право быть на Рабфаке (мой отец – безземельный крестьянин, член РКП)» (ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 237. Л. 254–255 об.). Это право авторы писем рассматривают как завоевание Советской власти, которая в противовес старому режиму дает дорогу в вузы бедным слоям, а отказ выдать им направление на учебу – как его ущемление.
Д.А. Андреев верно указывает на то, что в ряде случаев для молодых людей бедность была синонимом принадлежности к эксплуатируемому классу, а значит, к пролетариату, вне зависимости от профессиональной деятельности родителей [Андреев, 2007, с. 160]. Действительно, «пролетарское происхождение» зачастую понималось соискателями гораздо шире, чем властями. Данное обстоятельство вызывало ряд недоразумений и провоцировало переписку с целью доказать свое соответствие критериям приема на рабфак: «…Отец мой работал в Железнодорожных вагонных мастерских 11 лет в качестве катальщика, после его смерти в феврале 1928 г. моя мать <…> с декабря 1929 г. стала работать на том же предприятии уборщицей вагонного цеха. Прошу не отказать и принять меня в Рабфак как дочь рабочего» (ж., 1930 – Управление архива … Новороссийск. Ф. Р-17. Оп. 1. Д. 256. Л. 47); «родители мои действительно пролетар- ского происхождения: отец мой прослужил в Военно-медицинской академии в лаборатории 22 года, все время работая над человеческими трупами. В то же время и мать моя не гуляла, а работала в качестве истопника в подвале в том же учреждении» (м., 1922 – ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 257. Л. 38–39).
Иногда авторы писем даже обвиняли в необъективности рабочие комитеты, дававшие направления на рабфак, хотя их действия соответствовали установкам властей (м., 1927): «В первую очередь они направляют кандидатуры своих любимчиков, а так же направляли комиссией на рабфак исключительно одних комсомольцев» (ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Д. 666. Л. 73–75 об.).
Проблемой сельских абитуриентов нередко было искаженное представление о правилах, сроках и условиях приема на рабфак. Привлеченные рассказами товарищей, они отправлялись в города, иногда большими группами, и оказывались в достаточно сложной ситуации, так как там их никто не ждал ( Ростовский, 1924, с. 206–213). Это порождало разочарование у определенной части молодежи, не получившей, несмотря на все усилия, направления в вуз по вполне объективным, но непонятным молодым людям причинам или обстоятельствам, которые они, исходя из своих представлений, считали неправильными и несправедливыми. То есть путевку на рабфак абитуриенты воспринимали скорее как подтверждение своего социального статуса «бенефициара» революции, а не как признание формального соответствия уровню требований для дальнейшей учебы.
Практически никто из авторов писем «во власть» не считал серьезным препятствием для поступления свой недостаточно высокий уровень подготовки, напротив, многие рассматривали плохое образование как признак «правильного» классового происхождения. В то же время в прессе 1920-х гг. проблема готовности рабфаковцев к обучению была предметом активного обсуждения. В ряде статей ставился вопрос о необходимости отбора, а не просто направления молодых людей на рабфак, чтобы избежать высокого отсева пролетарского и крестьянского студенчества в первый же год обучения, а также об организации на местах подготовки на рабфаки ( Авиновицкий, 1928, с. 7). Так как приемные комиссии иногда были вынуждены «пренебречь академической подготовкой для того, чтобы заполнить прием хорошим социальным составом», сотни рабочих и батраков попадали на рабфак, не имея даже законченного начального образования. Как писала пресса тех лет, «будучи поставлены перед необходимостью в четыре года пройти программу средней школы, многие из них <…> изматывают свое здоровье и попадают в разряд отстающих» ( Изаксон, 1929, с. 5). В результате не на всех направлениях обучения удавалось довести долю рабочих и крестьян среди студентов до требуемых 70–80%. С.В. Нагорная и В.М. Остапенко отмечают, что на медицинских факультетах выйти на плановые цифры удалось только к 1930 г. после нескольких «чисток» [ Нагорная, Остапенко , 2013, с. 150-151].
Несмотря на приоритетное положение по сравнению с положением студентов вузов, многие юноши и девушки (особенно из деревни) после поступления на рабфак сталкивались с проблемой обустройства на новом месте. Проблемы быта и условий учебы рабфаковцев широко обсуждались в прессе 1920-х гг. Авторами статей были студенты, ученые и представители управленческих структур. Некоторые вузы даже проводили специальные социологические исследования. Так, в журнале «Красное студенчество» преподаватель Казанского рабфака С. Козлова представила результаты анкетного опроса студентов-рабфаковцев выпуска 1924–1925 учебного года. Кроме позитивной оценки влияния учебы на личность и на дальнейшие планы студентов в статье указывается на их перегруженность учебной и общественной работой, ухудшение здоровья и сложные условия жизни ( Козлова, 1926, с. 29). Схожие проблемы были обозначены и в статье Д. Эпштейна «Жизнь рабфаковца в цифрах» ( Эпштейн, 1925). Исходя из материалов рабфака им. Покровского автор отмечал, что по данным медицинского обследования число здоровых студентов дневного отделения сокращается с 53,6% на первом курсе до 18,6% на третьем, а учебная и общественно-политическая работа не оставляют времени для нормального отдыха и тем более занятий физкультурой. Выход из ситуации он видел в изменении бюджета времени рабфаковцев за счет перераспределения учебной нагрузки (предлагая снизить её на первом курсе и повысить на третьем), уменьшении объема домашних заданий и упорядочении общественной работы.
О высокой нагрузке и трудных условиях жизни сами рабфаковцы чаще всего упоминают в письмах с просьбой не исключать их (или восстановить, если это уже произошло): «После деревенской жизни я не могла всего так скоро понять, кроме того, попала в слишком высокую для меня группу, в которой мне трудно было учиться и не оставалось времени для участия в кружках» (ж., 1922 – ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 257. Л. 196 об.); «условия сложившейся для меня тяжелой жизни <…> заставили меня последний маленький промежуток времени не совсем исправно посещать учебные занятия, ввиду необходимости себе дополнительного заработка для существования» (м., 1922 – ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 257. Л. 266); «ведь я отстал почему, да потому, что я ходил работать зимой на колку льда, дабы заработать себе на кусок хлеба» (м., 1925 – ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 434. Л. 352–353 об.).
Несмотря на то что к середине 1920-х гг. практически все студенты рабфака обеспечивались стипендиями ( Дзюба, 1926), до получения первой выплаты нередко возникали ситуации, вынуждавшие молодых людей обращаться за поддержкой в партийные органы. Так, в 1926 г. студент рабфака Казанского госуниверситета просит горрайком ВКП(б) выдать ему 3 рубля: «Я поступил учиться на рабфаке КГУ, но нам еще не выдавали стипендии, а у меня сейчас нет обуви, бумаги, карандашей <…> из дома не мог достать ни копейки денег кроме 10–15 ф[унтов] черного хлеба» (ЦГА ИПД РТ. Ф. 181. Оп. 1. Д. 78. Л. 187). В первые же годы существования рабфаков в наиболее сложном положении, как ни странно, оказались студенты, получившие направления от ЦК РКП: в отличие от студентов, командированных профсоюзами, они долго не получали никакого пособия. В 1922 г. в коллективном обращении петроградские рабфаковцы-коммунисты писали о том, что «остальные студенты, командированные от Профсоюза, получают разницу в жаловании по занимаемой ими прежде должности», а им самим «паек пока до выяснения не выдается и мы форменно голодаем…< > Мы уже десять дней не получаем хлеба; товарищи, кои получают разницу, еще могут кое-как дотянуть до выдачи пайка, а нам никакого выхода нет» (ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 479. Л. 17 об.). Петроградский Губком РКП в связи с этим и другими письмами был даже вынужден обращаться для решения данной проблемы в ЦК РКП(б) и Главпрофобр, так как на петроградских рабфаках было много коммунистов, приехавших со всей страны, и губком «абсолютно ничего не может выдавать из своих средств, крайне притом ничтожных» (ЦГАИПД СПб. Ф. 16. Оп. 1. Д. 479. Л. 17 об.).
В письмах рабфаковцев 1920-х гг. встречаются также темы, не попавшие в публичное обсуждение и прессу. Чаще всего это переводы в другой вуз, просьбы (иногда коллективные) о товарищах, обвинение в сведении «личных счетов» представителей профкомов или других органов.
Просьбы о переводе на рабфак в другой город студенты чаще всего мотивируют личными обстоятельствами, например, необходимостью материально поддерживать семью или же, наоборот, получать поддержку, которая невозможна на нынешнем месте учебы. Встречаются и примеры изменения профессиональных приоритетов (м., 1923): «Ходатайствую <…> не препятствовать мне к переводу в рабфак с техническим уклоном, ввиду отсутствия призвания к педагогической деятельности» (ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 135. Л. 22).
Система межличностных отношений также находит свое отражение в письмах «во власть». Диапазон их довольно широк: мы встречаем примеры как дружбы и товарищества, так и неприязни, зависти, упреков. Товарищи могли заступиться за студента в случае его отчисления (чаще всего это были коллективные письма). Основные аргументы при этом были связаны не с учебой, а с общественной деятельностью, «правильными» политическими взглядами и соответствующим происхождением. Часть таких писем, возможно, инициирована самими отчисленными: они достаточно формальны, дублируют по содержанию обращение самого студента и подписаны разными людьми (не только студентами). В ряде обращений группа выступает консолидированно и достаточно эмоционально. Показательно в этом смысле письмо в Центральную мандатную комиссию группы студентов петроградского рабфака, сопровождавших баржи с дровами (1922): «Вместо того, чтобы учиться и сидеть в теплой комнате, тов. Максимов пустился в тяжелое и холодное плавание, как для того, чтобы обеспечить рабфак дровами, так и потому, что, являясь истинным сыном Советской России, тов. Максимов пожелал помочь хоть чем-нибудь своей пролетарской Родине. <…> тов. Максимова мы узнали, как человека с чисто пролетарской психологией и как истинного рабочего. Поэтому, считая исключение тов. Мак- симова неправильным, и, считая, что произошло недоразумение, мы просим оставить тов. Максимова на Рабфаке» (ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 257. Л. 252–253).
Гораздо реже можно встретить в письмах примеры не товарищества, а дружбы (характерно для индивидуальных обращений с просьбами, имеющими отношение к другому человеку) (м., 1922): «Мой товарищ <…> уехав в отпуск заболел дизентерией, и потому опоздал приехать и не прошел регистрации. <…> очень прошу его из списков не исключать и его место оставить за ним до приезда» (ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 266. Л. 26).
В то же время угроза отчисления заставляет некоторых рабфаковцев использовать не совсем честные приемы, чтобы остаться в вузе (м., 1925): «Посмотрите на чистку, я увидел, что многим товарищам дают переэкзаменовки, а других оставляют, неужели я хуже других <…> сидящий со мной товарищ учится хуже меня и остался на второй год, а меня исключили <…> пусть и меня тогда оставят на второй год или дадут переэкзаменовку, тогда узнаем, кто из нас лучше ответит – он или я» (ЦГА СПб. Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 434. Л. 352–353 об.).
Желание учиться конкретного молодого человека и задачи, поставленные государством, иногда не совпадали. Рабфаки не всегда могли обеспечить должный уровень подготовки и соответствие количества выпускников разных уклонов реальным заявкам высших учебных заведений. Кроме того, рабфаковцы, планировавшие вернуться на свой завод или в свое село, зачастую не хотели получать образование в педагогических или медицинских вузах. Эта тема активно обсуждалась в прессе 1920-х гг. на уровне научного и педагогического сообщества, но, так как являлась системной проблемой, практически оставалась вне поля интересов отдельных студентов.
В статьях 1920-х гг. мы встречаем разнообразные, в том числе критические, мнения о системе рабфаков ( Буровой, 1929). В письмах же студенты не позволяют себе сомневаться в успешности и позитивном влиянии на свою жизнь рабочих факультетов, а, напротив, демонстрируют максимальную заинтересованность в том, чтобы получить образование.
В завершении статьи попытаемся обозначить и сравнить основные проблемы рабфаковцев, представленные в письмах, с теми, что широко обсуждались общественностью, в частности в прессе 1920-х гг. Рассмотрим ситуации в хронологическом порядке – от поступления на рабфак до выпуска.
Основными проблемами на этапе поступления для молодых людей были нехватка командировок и непонятный механизм их распределения. В обращениях к властям часто встречаются просьбы о зачислении на рабфак (иногда многократные), в том числе без командировки. Молодые люди мотивируют свое желание учиться бедностью, пролетарским происхождением, невозможностью заниматься физическим трудом по состоянию здоровья, апеллируют к завоеваниям советской власти и т.д. Пресса 1920-х гг. также не обходит стороной этот вопрос. В статьях приводятся конкретные истории рабфаковцев, делается упор на недостатки разъяснительной работы, касающиеся условий и возможностей приема различных категорий граждан. В журна- лах обсуждается также низкий уровень подготовки абитуриентов. Эта проблема поднимается преподавателями и руководящими работниками, отмечается отсутствие системы отбора на низовом уровне (при выдаче направлений). Сами абитуриенты, судя по их обращениям «во власть», плохую подготовку не воспринимают как препятствие к зачислению, даже считают, что она служит подтверждением их пролетарского происхождения.
Условия жизни и учебы являются темой обращений на следующем этапе. Отсутствие пособия и пайка или стипендии было актуально в первые годы существования рабфака и являлось поводом для личных и коллективных обращений в различные органы власти и стипендиальные комиссии. В прессе данная тема рассматривается наравне с другими бытовыми трудностям, вынуждающими рабфаковцев дополнительно работать. Кроме того, чтобы избежать многочисленных обращений студентов, в печати разъясняются принципы распределения стипендий.
Тяжелые бытовые условия, жесткий бюджет времени (учеба, работа, общественная нагрузка, кружки и т.д.), ухудшение состояния здоровья активно обсуждаются в печати как самими рабфаковцами, так и учеными. В частности, приводятся примеры исследования здоровья студентов и бюджета времени, ставится вопрос о снижении внеучебной нагрузки (как фактора, негативно влияющего на академическую успеваемость и здоровье). Но для самих рабфаковцев указанные моменты не являются основным предметом обращений к властям, они упоминаются лишь при объяснении причин неуспеваемости в заявлениях о восстановлении или просьбах не отчислять с рабфака. Практически не упоминается в письмах нехватка и аудиторий, и инвентаря, так как это являлось общей проблемой, а не относилось лично к автору письма. В прессе же данная тема активно обсуждается, зачастую с указанием на издержки «старой» вузовской системы.
Зато такие проблемы, как перевод в другой вуз, а также восстановление (просьба не исключать) и отчисление встречаются в периодической печати крайне редко, обычно в контексте общих трудностей жизни и учебы на рабфаке. А для самих рабфаковцев это едва ли не самый частый повод для обращения к властям, просьбы всегда имеют личную мотивировку (работа, осознание неправильного выбора специальности, семейное положение, наличие нетрудоспособных родственников, тяжелое материальное положение и т.д.). Количество подобных обращений увеличивается после каждой «чистки».
В случае благополучного завершения обучения на рабфаке могло обнаружиться несоответствие его выпуска (количественно и качественно) потребностям вузов. В прессе 1920-х гг. данная ситуация обсуждалась как серьезная общественная проблема, мешающая рабфакам в полной мере выполнять возложенные на них государством функции. В письмах «во власть» данная тема упоминается редко (в контексте невозможности для конкретного рабфаковца попасть в желаемый вуз).
Деятельность рабфаков в целом в периодической печати оценена по-разному. При общем позитивном восприятии ее руководящими работниками (пролетаризация вузов) и студентами (доступ к знаниям, невозможный при других условиях) встречаются и негативные комментарии. Как правило, это напечатанные рассказы бывших рабфаковцев, столкнувшихся с серьезными трудностями в учебе и быту и вынужденных покинуть рабфак, некий вариант «открытого письма». При публикации подобные статьи всегда сопровождались комментариями.
В письмах студентов «во власть» негативная оценка рабфака практически не встречается, а вот позитивная попадается даже у авторов, еще не имевших дело с системой высшего образования, в просьбах о зачислении (рабфак при этом определяется как благо, доступ к которому автор письма требует для себя).
Таким образом, тематика писем рабфаковцев частично пересекается с широко обсуждаемыми в то время общественностью проблемами высшего образования, но есть и моменты студенческой жизни, которые по-разному оцениваются авторами. В газетных и журнальных статьях чаще анализируются системные проблемы рабфака, кроме того, предпринимается попытка вызвать общественную дискуссию путем публикации критического материала и комментариев к нему. Письма «во власть» позволяют составить представление о некоторых общественных тенденциях с учетом личных переживаний авторов. Самоидентификация и восприятие рабфаковцами собственного особого места в советском вузе гарантирует их лояльность властям, именно поэтому в письмах мы практически не встречаем критики, в них лишь жалобы на от- дельные недоработки и просьбы решить какую-либо проблему в пользу автора. Все трудности авторы обращений трактуют как временные препятствия, которые следует устранить, чтобы рабфаковец, выходец из беднейших слоев, смог осуществить миссию, возложенную на него государством, – получить высшее образование.
Список литературы "Прошу моей просьбе не отказать": отражение проблем рабфаковцев 1920-х годов в их обращениях к власти
- Управление архива муниципального образования город Новороссийск Ф. Р-17. Оп. 1. Д. 256. Л. 47.
- Центральный государственный архив историко-политических документов Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ). Ф. 181. Оп. 1. Д. 78. Л. 7 об., 187.
- Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. Р-2556. Оп. 1. Д. 135. Л. 22; Д. 237. Л. 38-39, 196 об., 252-255 об., 266; Д. 266. Л. 26, 53; Д. 411. Л. 3-4; Д. 434. Л. 352-353 об.; Д. 666. Л. 58, 73-75 об.
- Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). Ф. 16. Оп. 1. Д. 479. Л. 17 об.
- Авиновицкий В. Рабфак как он есть // Красное студенчество. 1928. №11. С. 7-9.