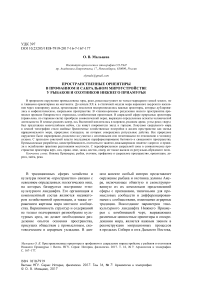Пространственные ориентиры в профанном и сакральном мироустройстве у рыбаков и охотников Нижнего Приамурья
Автор: Мальцева Ольга Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
В природном окружении промысловика горы, реки, рощи выступают не только маркерами «своей земли», но и главными ориентирами на местности. До начала XX в. в статичной модели мира коренного амурского населения через планировку жилья, организацию поселения воспроизводились важные ориентиры, которые дублировались в мифопоэтическом, сакральном пространстве. В «таежно-речном» разделении жилого пространства проявился принцип бинарности и отразилась хозяйственная ориентация. В сакральной сфере природные ориентиры (право-лево, по сторонам света) приобрели символический окрас, выражали определенные аспекты человеческой деятельности. В земных реалиях центр, ось Вселенной воплотились в мировом, родовом древе, устье реки; «верх» был представлен многослойным небом, где живут покровители звезд и городов. Локусами сакрального мира в земной топографии стали свайные бревенчатые хозяйственные постройки в жилом пространстве как звенья иррационального мира, природные площадки, на которых совершались ритуальные действа. Все природное окружение было маркировано, разделено на участки с негативными или позитивными по отношению к человеку силами. С приходом советской власти последовало переформатирование бытового и священного пространства. Промышленные разработки, невостребованность охотничьего занятия девальвировали понятие «дорога» и привели к ослаблению практики распознания местности. С переоформлением сакральной зоны в символическое пространство ориентиры верх, низ, право, лево, запад, восток, север, юг также выпали из ритуально-обрядового поля.
Нижнее приамурье, рыбак, охотник, профанное и сакральное пространство, ориентация, дорога, тайга, река
Короткий адрес: https://sciup.org/147219811
IDR: 147219811 | УДК: 397 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-167-177
Текст научной статьи Пространственные ориентиры в профанном и сакральном мироустройстве у рыбаков и охотников Нижнего Приамурья
В традиционных сферах хозяйства и культуры понятие «пространство» связано с освоением определенных экологических ниш, на которых базируется построение этнокультурного ландшафта. Его организация и компонентный состав являются индикатором хозяйственной ориентации, а также отражением картины мира местного сообщества. Вариативность структур и содержаний не только подчеркивает разнообразие культурных сред, но делает необходимым разделение опытов освоения пространства, присущих обществам с промысловым, скотоводческим и аграрным укладами. В дан- ном аспекте особый интерес представляет окружение рыбака и охотника долины Амура, включающее обжитую и сконструированную из их комплексов представлений сферы с признаками, типичными для промысловых сообществ и дифференцированными с сообществами, имеющими аграрные традиции. Воссоздание параметров этнокультурного ландшафта Нижнего Приамурья с комбинацией черт, выражающих различные ценностные ориентиры в опосредовании мира, является важным звеном в реконструкции миграционных процессов в пределах Сибири и юга Дальнего Востока,
Мальцева О. В . Пространственные ориентиры в профанном и сакральном мироустройстве у рыбаков и охотников Нижнего Приамурья // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 7: Археология и этнография. С. 167–177.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 7: Археология и этнография
на что нацелена данная работа. При этом важными задачами при анализе опыта выживания в амурской среде остаются воссоздание понятийного аппарата и ценностных установок, привязанных к окружающей среде, изменение их символической, знаковой, практической роли с течением времени.
Естественно-географический фактор во многом обусловил образ жизни и формирование системы ценностей коренных жителей «Большой реки». Условия Нижнего Приамурья, занятого обширными горными системами, равнинами и низменностями, покрытого лесом, сетью рек, озер, болот, повлияли на характер жизнедеятельности местных народов. Их существование в условиях затяжной холодной зимы и практически безлюдной местности, уклад, построенный на потреблении лесных и водных ресурсов, определили тактику освоения пространства и размежевание его в условных границах «центр – периферия» с выделением локусов, игравших особую роль в хозяйственной и культурной сферах. Эта природная составляющая особенно выражена в практике домостроения и выборе хозяйственных зон.
В настоящее время имеется достаточно материала, раскрывающего специфику этнокультурного ландшафта земледельческих сообществ и собирателей тропического пояса со стационарным типом поселений. В этом обустроенном пространстве выделяются центры и расположенные вокруг них в виде концентрических ближних и дальних «кругов» провинции и периферии [Калуц-ков, 2000]. Сложившаяся в этнографии практика изучения того или иного народа с привязкой к конкретному месту оставляет возможности для дискуссии. Даже если у аграриев и некоторых групп собирателей в тропиках понятие «граница» и представления об иерархии мест совпадают с переходами ландшафтных зон и осмысливаются применительно к обжитой территории, их нельзя рассматривать как результат исключительно адаптации к определенным природным условиям без учета инокультурного влияния [Аппадураи, 2000].
Малозначима и как бы отодвинута на задний план категория «граница» в модели освоения пространства номадов и охотников таежных и степных районов азиатской части России. Доминантой в их конструкции мира выступает «путь, дорога», что указывает на динамичный, подвижный образ жизни, при котором актуальной становится ориентация на местности. Линейная модель освоения земной поверхности, характерная для кочевых сообществ, предполагает «фокусировку» на тех или иных объектах, имеющих характерные природные признаки или ресурсную ценность. По мере продвижения промысловика или скотовода по огромной территории ее компоненты – горы, реки, рощи, вписываются в его картину мира в качестве обозначений «своей земли». Знаками окультуренного пространства становятся обжитые участки, места захоронений, проложенные маршруты как выражение человеческой деятельности [Головнев, 2009. С. 142–155; Содномпилова, 2003; Тишков, 2004].
У промысловых народов Урала и Сибири «таежно-речная» терминология составляет существенный раздел лексики. Это является свидетельством того, что у таежных охотников относительно данных природных объектов выстроено структурирование земного пространства. О. А. Казакевич при анализе фольклорных текстов северных селькупов выявила несколько обозначений леса и реки: «ближняя тайга», «дальняя», «река побольше» и «река поменьше», «от берега», «к берегу», «вверх по течению», «вниз по течению» [2000. C. 323–325]. Г. М. Василевич в работе по географическим представлениям эвенков детализировал их понятия «река» и «тайга» большим набором слов, обозначающих «дальше от реки» или «тайги», характер изгибов и состояние русел рек, особенности покрытых растительностью участков [1963. C. 306–307]. Большое разнообразие разнокоренных названий таежного ландшафта и водоемов отмечено у коренных жителей долины Амура. В «Нанайско-русском словаре» С. Н. Оненко признаки местности, например «небольшой островок леса посреди болота», выражаются понятием дэту, «старое русло реки, покрытое наносной землей, песком» – холгосо, «высохший глинистый берег» – такан, «низкий каменистый берег» – мунгэн и т. д. [Оненко, 1980]. Горинские нанайцы через близкие контакты с тунгусами пополнили свой лексический аппарат «таежными» терминами [Мальцева, 2009. С. 161–178]. Они идентичны на всей территории расселения тунгусоманьчжурских народов, в пределах Нижнего Приамурья выступающих носителями мест- ных рыболовецких и привнесенных таежных охотничьих традиций. В долину Амура тунгусские племена проникали по левым притокам реки и мелким речкам. «Река» в их осмыслении пространства стала квинтэссенцией «пути». Внутри нанайской общности разделение на амурскую, кур-урмий-скую, горинскую, сунгарийскую, уссурийскую группы произведено по наименованиям рек, берега которых освоили выходцы из других районов [История…, 2003. С. 4–5]. Даже представители ветвей большого рода-конгломерата Самар себя идентифицировали по названиям речек, с берегов которых был исход их предков [Смоляк, 1975]. Так, в среде горинских нанайцев выделялась кэ-вурская подгруппа, происхождение которой связано с речкой Кэвур [Мальцева, 2009. С. 16]. И в настоящее время старшее поколение амурских нанайцев, проживающее преимущественно в селах по Амуру, – Най-хин, Дада, в рассказах о своих родителях подчеркивает, откуда они (с протоки Эмо-рон, Дондонской, Гассинской, вдоль которых в прошлом размещались нанайские стойбища) (ПМА, 2008, с. Лидога, Нанайский р-н, инф. В. Ч. Гейкер; 2011 г., с. Най-хин, Нанайский р-н, инф. А. К. Бельды; с. Дада, Нанайский р-н, инф. М. Г. Кимон-ко).
Для промысловика, проходившего и проплывавшего большие расстояния, важно было запечатлеть в памяти контуры местности. Г. В. Василевич поражалась точным рисункам речных систем, выполненных ее эвенкийскими информаторами, что явно указывало на их способность видеть мир в горизонтальной проекции [1963. C. 315–316]. Примечательно также, что в языке народов-охотников, есть целый набор слов, выражающих локативные отношения с центральными звеньями «лес», «берег», «река» (вдоль реки, от берега, через чащу). Эти словесные формы показывают, что течение рек, характерные изгибы русел, состояние и контуры берега служили важнейшими ориентирами в направлении миграции, переко-чевок или в прокладывании охотничьих маршрутов, в поисках рыбных участков. Монотонное, речитативное пение во время сплава на лодке или оморочке зачастую было привязано к природным объектам, которые попадали в поле зрения рыбака или охотника. В 1997 г. автор данной статьи стала свидетелем «дорожного вокала» кон- донских нанайцев: старейшая представительница коренного населения Ксения Ивановна Дигор в предчувствии своей смерти решила совершить последний поклон родовым местам. Расположенные вдоль реки Девятки скальные обнажения, сопка с рассеченной вершиной, мимо которых проходил маршрут, вплетались в сюжетную линию легенды, нараспев рассказанной Ксенией Ивановной. Этот пример наводит на мысль, что подобное исполнение в прошлом, когда в пение или рассказ встраивались детали обозреваемого ландшафта, помогало ориентироваться рассказчику и его попутчикам на местности. В шаманском камлании народов Приамурья сохранился отголосок дорожного фольклора. Так, П. П. Шимкевич на страницах своей работы по шаманству гольдов привел длинный список остановок души умершего по пути в загробный мир (буни): дару – название места, где происходят поминки; оня; болоса – местность, где душа впервые встречает затруднения при своем странствовании; ингила; сая – суигонэ: ту-ента: харо (в харо пути разветвляются и при дальнейших одинаковых названиях и затруднениях у гольдов в буни идет столько путей, сколько родов у гольдов) [1896. С. 15–16].
В некоторых нанайских селах сохранились предания об эпидемии оспы на Амуре. Уцелевшие жители стойбищ, охваченных болезнью, в поисках безопасного места брели вдоль реки. На береговом кусте привязанный лоскуток красной ткани или по-особому надломленная ветка служили сигналом, что вблизи находится сусу – заброшенное с вымершим населением стойбище, которое надо обходить (ПМА, 2008 г., с. Лидога, Нанайский р-н, инф. У. А. и Е. П. Одзял; ПМА 2011 г., с. Сикачи-Алян. Хабаровский р-н, инф. Е. И. Мурзина). Этот мотив присутствует и в некоторых легендах тэлэнгу о нанайских родах. Герой перемещается по течению или против течения реки, надломленные веточки на деревьях предостерегают об опасном месте или указывают, куда сворачивать [Самар, 2003. С. 10].
Таким образом, фенологические наблюдения, очертания ландшафта и рек, все, что вписывается в земную топографию, выступали главными маркерами ориентирования в пространстве и знаками с регулятивной, коммуникативной функцией в профанном мироустройстве [Арутюнова, 1999. С. 313– 346]. Для охотника или рыбака необходимо было умение читать следы животных, определять изменения в природе по мельчайшим признакам или пригодность территории для проживания и ведения промысла. Этот багаж знаний, накопленный через сенсорноперцептивное восприятие, на представлен-ческом и рече-мыслительном уровне составил коллективный опыт многих поколений [Артемьева, 1999. 17–20].
В структурировании пространства амурских промысловиков можно выявить ряд как типичных для большинства народов, так и специфичных черт. Универсальным признаком устройства мира является его секто-ральность и бинарность, в земных реалиях представленных в разделении на хозяйственную и жилую зоны, в оппозиции мужское – женское [Лич, 2001. С. 11–79]. В земной топографии ориентиры переднее, заднее, левое, правое, нижнее, верхнее наложены на природные объекты и вписаны в секторальное размещение. У амурских нанайцев планировка жилья соотносилась с расположением леса и реки. Поскольку места с густой растительностью таили в себе опасность, то вход старались располагать в сторону реки, задняя глухая стена дома была обращена к лесу [Деревянко, 1991. С. 118] (ПМА, 2011 г., с. Найхин, Нанайский р-н, инф. Р. А. Бельды). В жилой и хозяйственной зонах определенные совокупности естественных объектов, построек создавали конфигурацию индексов, указывающих на предназначение сегментов в территориальном пространстве. Они стали кодами и в социальном пространстве – как показатели статусности. Оппозиция «мужское – женское» отчетливо проявилась в разделении внутри жилого сектора, который еще оказался вписан в «таежно-водную» структуру мира [Мальцева, 2016]. Мужская сфера стала выразителем лесной, таежной стихии. Символически мужским статусом был наделен амбар с охотничьей амуницией, в жилище – «таежный» очаг предков, к которому запрещалось подходить женщинам. В женскую сферу входили сегменты жилых, хозяйственных построек, связанных с приготовлением пищи, кормлением собак, работой с мягким материалом (кожей, тканью).
М. Элиаде отмечал, что для традиционных сообществ, будь то аграрии или промысловики, мир представляет скопление боль- шого числа «мест», где человек перемещается, движимый житейскими потребностями [1994. С. 24]. Это «место» должно соответствовать определенным требованиям, выполнение которых обеспечивало должный уровень безопасности. Можно привести пример «дороги жизни» у австралийских аранта, когда совершался обход мест «кормовой базы» с известной периодичностью. На этих путях открывались новые шансы выживания. Это побуждало держаться за те локусы «места», где можно было прокормиться в тяжелые моменты [Топоров, 2004. С. 38].
В случае с нижнеамурскими народами в обустройстве территорий существенную роль сыграл фактор «окраины», природно и социально обусловленный. Эту особенность у племен тропической зоны, освоивших районы природного пограничья, в свое время выделил К. Леви-Стросс. «Окраинная» группа вмещала в себя «саванную» и «при-лесную», причем саванные племена стремились сохранить лесной образ жизни [1985. С. 91–102]. Если рассматривать этот феномен в контексте амурской истории, становится заметным, что в пределах Приамурья миграцию тунгусов сдерживал океан, выход в который возможен был только на достаточно прочных, способных противодействовать штормам лодках. Мигранты с запада оседали в долине реки, смешиваясь с местными ихтиофагами. Следует также отметить, что их пространство, покрытое лесом, на юго-западе сменяла лесостепная и степная зоны с издревле развитыми сельскохозяйственными культурами [Деревянко, 1981]. К югу и юго-востоку располагались и мощные очаги восточного земледелия, центры цивилизации в Восточном Китае, оказывавшие влияние на уклад нижнеамурских аборигенов.
Нарративный материал, поселенческая структура рыбаков Амура акцентирует внимание на северо-восточном и южном направлениях, которые для них стали знаковыми и обрели почти сакральный смысл.
Так, на северо-востоке находится изобилующее проходной рыбой устье Амура, выходящее в Охотское море. С этой стороны дуют холодные ветра, воздействующие на климат и растительный мир Нижнеамурской низменности и Амурской равнины. По наблюдениям местных жителей, склоны возвышенностей, обращенные в сторону Охотского моря, попадают под влияние холодных пото- ков воздуха, они часто покрыты березняком, хвойными породами, что характерно для северных районов. На южных подветренных склонах произрастает многоярусная растительность с видами, встречающимися в субтропиках. В лексике нанайцев южная сторона возвышенности получила особое обозначение – борсой, чаще всего вблизи южных склонов размещались и поселения [Лопатин, 1922. С. 91; Оненко, 1980. С. 77].
Согласно традиционным представлениям коренного населения, на северо-востоке живет покровитель (покровительница) рыбных богатств Амура, управляющий ветром. Нагромождение валунов на одном из островов протоки Эморон (в Нанайском районе Хабаровского края) нанайские рыбаки и по сей день связывают с «Каменной Старухой», ответственной за рыбное изобилие в реке (ПМА, 2011 г., с. Найхин, инф. С. С. Бель-ды). В ее распоряжении находится и северный ветер, способный породить шторм на Амуре и воспрепятствовать рыбалке.
В итоге в мифопоэтическом пространстве амурского рыболова можно выделить периферийную зону, расположенную в границах Охотского моря, Татарского пролива, где обитают владыки рыбных богатств, управители климатом и живут «люди-касатки» [Нанайский фольклор, 1996. С. 417–420] (ПМА, 1996 г., с. Булава, Ульчский р-н, инф. С. Н. Анги-Вальдю). В среде амурских охотников и рыбаков восточная окраина с омывающими ее водами стала местом символической рыбалки, не игравшей какой-либо экономической роли, а призванной повысить и укрепить статус молодого промысловика среди его сородичей [Мальцева, 2009. С. 106].
Особую ценность приобрело южное направление, воспринимавшееся как выход к социальному и экономическому благополучию. За счет обмена и торговли с Китаем уже начиная с XVII в. жители долины Амура и его притоков получили доступ к разнообразной аграрной и кустарной продукции. Мужчины на больших многовесельных лодках по Амуру, потом по Сунгари, сплавлялось в северо-восточные районы Китая, где на специально обустроенных торговых площадках обменивали пушнину на ткани, металлические изделия, украшения, сельхозпродукты. Для жителя долины Амура престижной была родственная связь с маньчжурским чиновником через женитьбу на одной из его дочерей, за которую нужно было отработать три года [Сасаки, 1992]. Снаряжение и отправка торговой флотилии в Маньчжурию приобрели церемониальный характер, сам путь на юг оценивался как халико («счастье») [Мельникова, 1988]. В нарративе тунгусо-маньчжурских народностей сложился целый комплекс преданий, легенд (жанр сиохор / сохор / сохори), больше апеллирующих к маньчжурскому, китайскому фольклору. В них герои представлены чиновниками, солдатами, городскими жителями, а сюжетные линии разворачиваются в иной реальности – на территории Маньчжурии, Китая [Нанайский фольклор, 1996. С. 26–27].
Характерно, что если в амурском мифопоэтическом пространстве находящиеся в земной реальности Охотское море, Татарский пролив, Китай (как «никанская» и «гауспа» – маньчжурской родни, земля) выступали образами «севера» и «юга», то западное и северо-западное направления оказались разбиты по местностям. Это особенно заметно по родовым преданиям нанайцев, в которых родина предков привязана к конкретной реке, озеру или возвышенности, откуда был исход. В консервативной похоронной обрядности родовые разграничения оказались закреплены за животными – перевозчиками душ умерших на тот свет. Так, тунгусы, мигрировавшие в долину Амура через Баджальский хребет, себя идентифицировали как «оленные» люди, согласно их верованиям, покойник попадал в загробный мир на олене (ПМА, 2016 г., с. Ачан, Амурский р-н, инф. В. М. Киле). У населения с амурскими корнями душу увозил медведь (или собаки). Память о прародине, запечатленная в преданиях и шаманских похоронных песнопениях, вобрала в себя детали земного ландшафта, имевшие различия у пришлых и автохтонных групп [Липский, 1925; Лопатин, 1922. С. 284–285].
На примере народов Нижнего Приамурья можно выделить не только архаический пласт в их мироустройстве как результат накопления и наслоений в течение жизней многих поколений образов и воспоминаний, но и своеобразное дублирование сакральной топографии других народов. В таком случае главные координаты накладывались на различные образы в модели мира, имевшие статичный (природное окружение, поселенческая структура) и динамичный (шаман- ский ритуал, похоронная обрядность) характер. Восходящие к глубокой древности и повторяющиеся практически во всех традиционных культурах точка отсчета и ось Вселенной выражались в архетипе Мирового древа. В шаманской иконографии амурских тунгусо-маньчжурских народов Мировое древо (или Древо жизни) пронизывает все миры. Оно является исходной субстанцией в появлении шаманов и душ людей [Шаньшина, 1998. С. 16–18]. Характерно, что в земной реальности промыслового сообщества Амура его эманациями стали хвойные породы деревьев и ива как маркеры таежного и водного миров. Хвойные деревья имели и обрядовое значение. К примеру, за каждым нанайским родом тунгусского происхождения было закреплено особо почитаемое дерево, имевшее статус родового – ель или сосна [Козьминский, 1929. С. 45– 46]. На спинках свадебных халатов нанайцев также вышивались прообразы Родового и Мирового Древа. В жилом пространстве ось мира совпадала с центральной балкой дома, где жил дух предков.
В сфере человеческого бытия можно обратить внимание еще на один локус, где земные время и пространство сворачиваются. Амбары такто для рыбаков и охотников Амура выполняли не только хозяйственную функцию – в них хранились съестные припасы, домашний скарб, промысловые орудия. Они выбивались из ряда жилых глинобитных построек своей бревенчатой конструкцией. И. А. Лопатин отмечал, что традиция возведения бревенчатых свайных построек характерна для всего тихоокеанского региона, что роднит жителей долины Амура с населением тихоокеанского побережья [1922. C. 94–95]. Особое значение амбаров выражалось в регламентированном и табуированном отношении к ним со стороны разных групп местного населения. Ограниченный доступ женщин или мужчин в определенные зоны помещения имел отношение к хранимым там предметам (мужским, женским орудиям труда, бытовым вещам) и связывался с запретом прикасаться к ним представителям того или иного пола. Сакральный статус амбар приобрел и за счет того, что в нем иногда держали шаманские принадлежности (ПМА, 2008 г., с. Лидога, Нанайский р-н, инф. В. Ч. Гейкер). В нанайском фольклоре постройка на сваях фигурировала в тематике оборотничества, пре- вращения шамана в тигра и обратно [Лопатин, 1922. С. 201–202]. В период торговли с Китаем этот компонент жилой застройки уже являлся показателем имущественного расслоения в среде амурского населения.
Специфика нижнеамурского сакрального пространства заключалась в том, что в хозяйственно-жилой зоне вокруг отдельных построек – как звеньев иррационального мира – не были выстроены границы, внутри которых осуществлялись бы постоянные церемонии, как, к примеру, храмовое богослужение в сообществах с развитыми религиями. Вся обрядовая деятельность народов Амура совершалась на разных природных площадках в зависимости от их коннотации – с негативными или позитивными по отношению к человеку силами. Пади, сильно заболоченные территории, районы со следами природных катаклизмов, заброшенные после эпидемий стойбища олицетворяли «пустые», враждебные места [Топоров, 2004. С. 28–29]. Возможность договориться с высшими силами реализовалась вблизи горных перевалов, утесов, на склонах и участках равнины, покрытых хвойными деревьями. Примечательно, что на водной глади места впадения речек и выходы в протоки имели сакрально окрашенный характер. Согласно традиционным представлениям го-ринских нанайцев, р. Девятка ( Дярингха ) выступает проекцией космической дороги, в месте пересечения ее с рекой Горин находится космический столб, по которому души умерших перебираются в иной мир [Переверзева, 2005. С. 107]. Его устройство оживает в похоронной обрядности. Разжигание с западной стороны могилы огня указывало, что запредельная Вселенная, зеркально отраженная от земного пространства, расположена в западном направлении [История…, 2003. С. 210].
В космогонии нанайцев и ульчей в вертикальной структуре Вселенной выделяются подземная, земная и верхняя сферы. Но душа умершего перемещается только в земном плане, который также представлен несколькими невидимыми мирами [Смоляк, 1991. С. 10–33]. В земном (таежном) пространстве ближе к небу расположены горы. Само положение «возвышения» или «воспарения» уже несет на себе печать сакральности. Поэтому недаром в традиционной культуре образ мировой горы фигурирует в качестве обители богов. В медвежьей обрядности ульчей и нивхов медведь выступает олицетворением не только «таежного человека», но и жителя гор. Согласно их представлениям, душа ритуально убитого медведя идет в мир человеческих предков через горную тайгу [Золотарев, 1939]. В природном окружении амурских народов любая возвышенность интерпретировалась как локус сакральной сферы, вокруг мифологического стержня которого выстраивался целый ритуальный комплекс с поклонениями, жертвоприношениями, соблюдением табу. В нанайской традиционной концепции мира особого внимания заслуживает многоярус-ность верхнего мира, который по сути является отголоском недавних культурных привнесений из южного аграрного сообщества. Расположенные в иерархическом порядке небеса вмещают символический ряд с обозначением городов, созвездий, их антропоморфных покровителей и ответственных за деторождение [Смоляк, 1991. С. 12–22]. Образы звездного неба и божеств, характерные для стратифицированного общества, в амурской среде стали кодами социального пространства. Эти напластования в амурской культуре возникли как результат восприятия и осмысления рыбаками и охотниками особенностей уклада «южного» соседа, пропущенных через призму их мировоззренческих установок. В нанайской космогонии покровители звездного неба не влияли на исход охоты или рыбалки. К ним обращались как к помощникам в случае болезни, сложных родов, для разрешения домашних проблем.
Начало глубокой трансформации в жизни аборигенного сообщества долины Амура связано с революционными событиями и строительством советской власти на Дальнем Востоке. С провозглашением превосходства человека над природой последовало переформатирование бытового и священного пространств. Новые ассоциации оттесняли на задний план комплексы, выработанные в течение многих столетий и легшие в основу промыслового опыта. Промышленные разработки, не востребованность охотничьего занятия в рамках плановой экономики девальвировали понятие «дорога» и привели к угасанию практики распознания местности и передачи ее деталей в рисунке. Изменение очертаний ландшафта вследствие вырубки леса, карьерной добычи полезных ископаемых вызвало диссонанс в визу- альном восприятии потомственного промысловика, когда в привычную последовательность картинок вставлялись образы, для которых сложно было подобрать аналоги [Подосинов, 1999. C. 478]. Разрыв хозяйственной, бытовой и культурной связи вылился в сворачивание сакральной зоны с переоформлением ее в символическое пространство, воспроизводимое в топонимике и устном народном творчестве. Такие пространственные ориентиры, как верх, низ, право, лево, запад, восток, север, юг, выпали из ритуально-обрядового поля, сохранившись в качестве проявления психобиологической природы человека – коренного жителя региона.
Список литературы Пространственные ориентиры в профанном и сакральном мироустройстве у рыбаков и охотников Нижнего Приамурья
- Аппадураи А. Ставя иерархию на место//ЭО. 2000. № 3. С. 8-14.
- Артемьева Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики. М.: Наука, 1999. 350 c.
- Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
- Василевич Г. М. Древние представления эвенков и рисунки карт//Изв. ВГО. 1963. Т. 95. С. 306-320.
- Головнев А. В. Антропология движения. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2009. 496 с.
- Деревянко Е. И. Племена Приамурья: I тысячелетие н. э. Очерки этнической истории и культуры. Новосибирск: Наука, 1981. 336 с.
- Деревянко Е. И. Древние жилища Приамурья. Новосибирск: Наука, 1991. 158 с.
- Золотарев А. М. Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск: Дальгиз, 1939. 205 с.
- История и культура нанайцев. СПб.: Наука, 2003. 328 с.
- Казакевич О. А. Селькупская дорога (пространственная ориентация в фольклоре северных селькупов)//Логический анализ языка. Языки пространств. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 322-329.
- Калуцков В. Н. Основы этнокультурного ландшафтоведения. М.: Изд-во МГУ, 2000. 96 с.
- Козьминский И. И. Отчет об исследовании материальной культуры и верования гаринских гольдов//Гарино-Амгунская экспедиция 1926 г. Л.: б. и., 1929. С. 25-48.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Вост. лит, 1985. 536 с.
- Липский А. Вводная статья//Туземный съезд ДВО, 1-й (протоколы съезда). Хабаровск, 1925. С. 5-52.
- Лич Э. Культура и коммуникация: логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии. М.: Вост. лит., 2001. 142 с.
- Лопатин И. А. Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские. Владивосток: б. и., 1922. 371 с.
- Мальцева О. В. Горинские нанайцы: система природопользования. Традиции и новации (XIX -начало XXI века). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 184 с.
- Мальцева О. В. Таежная и водная стихии в сакральной практике рыболовов Амура//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 7: Археология и этнография С. 178-187.
- Мельникова Т. В. Путешествие в Маньчжурию на «Халико» (о поездках нанайцев и ульчей в Маньчжурию в конце XIX -начале XX века)//Дальний Восток России -северо-восток Китая: исторический опыт взаимодействия. Хабаровск: Дальнаука, 1988. С. 38-42.
- Нанайский фольклор. Нингман, сиохор, тэлунгу/Сост. Н. Б. Киле. Новосибирск: Наука, 1996. 478 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока)
- Оненко С. Н. Нанайско-русский словарь. М.: Русский язык, 1980. 552 с.
- Переверзева (Мальцева) О. В. Мифопоэтическое пространство нанайцев долины реки Девятки в XIX-XX веках//Археология, этнография и антропология Евразии. 2005. № 1 (21). С. 97-111.
- Подосинов А. В. Ex oriente lux! Ориентация по сторонам света в архаических культурах Евразии. М.: Языки русской культуры, 1999. 720 с.
- Самар Е. Д. Под сенью родового древа. Хабаровск: Хабаровск. кн. изд-во, 2003. 211 с.
- Сасаки C. Сантан Коэки -торговля народов Нижнего Амура и Сахалина в XVIII и XIX веках//Б. О. Пилсудский -исследователь народов Сахалина: Материалы междунар. науч. конф./Сахалинский обл. краеведческий музей. Южно-Сахалинск, 1992. С. 119-127.
- Смоляк А. В. Этнические процессы у народов Нижнего Амура и Сахалина. М.: Наука, 1975. 232 с.
- Смоляк А. В. Шаман: личность, функции, мировоззрение. М.: Наука, 1991. 280 с.
- Содномпилова М. В. Природные и культурные ориентиры жизненного пространства номадов Центральной Азии//Народы и культуры Сибири. Взаимодействие как фактор формирования и модернизации. Иркутск: Оттиск, 2003. Вып. 2. С. 112-128.
- Тишков В. Культурный смысл пространства//ЭО. 2004. № 1. С. 14-31.
- Топоров В. Н. О понятии места, его внутренних связях, его контексте (значение, смысл, этимология)//Язык культуры: семантика и грамматика. М.: Индрик, 2004. С. 12-107.
- Шаньшина Е. В. Традиционные представления о происхождении земли и человека у тунгусоязычных народов юга Дальнего Востока: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 1998. 28 с.
- Шимкевич П. П. Материалы для изучения шаманства у гольдов. Хабаровск: Тип. канцелярии Приамурского генерал-губернатора, 1896. 133 с. (Зап.-Приамур. отд. Импер. Рус. Геогр. об-ва. Т. 2. Вып. 1)
- Элиаде М. Священное и мирское/Пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. М.: Изд-во МГУ, 1994. 144 с.