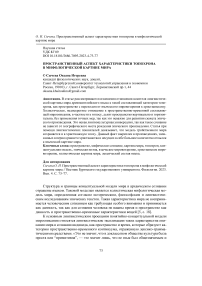Пространственный аспект характеристики топохрона в мифологической картине мира
Автор: Сычева О.И.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются изменения отношения носителя лингвистической картины мира древнеанглийского языка к такой составляющей категории топохрона, как пространство с переходом от языческого мировоззрения к христианскому. Холистическое, недискретное отношение к пространственно-временной составляющей мироописания, в частности к топосу, делит пространство вертикально и горизонтально, без применения точных мер, так как это неважно для развития сюжета эпического произведения. Это некая лингвокультурная универсалия, так как такое сознание не зависит от географического места рождения эпического произведения. Статья при помощи лингвистических показателей доказывает, что модель тройственного мира сохраняется и в христианскую эпоху. Данный факт закреплен в произведениях, записанных в период раннего христианства и несущих в себе большое количество отсылок к языческой картине мира.
Пространство, мифическое сознание, картина мира, топохрон, концептуальная модель, эпическая поэма, языческое мировоззрение, христианское мировоззрение, холистическая картина мира, лексический состав языка
Короткий адрес: https://sciup.org/148327677
IDR: 148327677 | УДК: 82’09 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-4-73-77
Текст научной статьи Пространственный аспект характеристики топохрона в мифологической картине мира
Сычева О. И. Пространственный аспект характеристики топохрона в мифологической картине мира // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 4. С. 73‒77.
Структура и границы концептуальной модели мира в архаическом сознании отражены языком. Таковой моделью является холистическая мифологическая модель мира, определенная согласно историческим, философским и лингвистическим исследованиям эпических текстов. Такая характеристика мира не воспринимается человеческим сознанием как требующая особого внимания и принимается как данность, так как для сознания человека не важны время и пространство как данность и пространственно-временные характеристики вещей [5, с. 18].
К основным лингвистическим проекциям понятийно-концептуальной модели мироописания относятся лингвистические экспликации таких характеристик описания мира в сознании индивида, как пространство и время, которые образуют категорию пространственно-временного континуума, отраженную лексико-грамматическими средствами. «Это не значит, что в доклассовом обществе культура была проста или “примитивна”, — это значит лишь, что ее язык был общезначимым и представлял собой знаковую систему, в достаточной мере одинаково интерпретируемую всеми группами и членами общества» [2, с. 245].
Согласно исследованиям ученых, работающих над изучением картины мира, сведения о таковых принято получать из текстов [6, с. 115]. При переходе от языческого мировоззрения к христианскому сменилась не только позиция человека в окружающем мире, но само понятие об этом мире. Именно по этой причине сказание о данах «Беовульф» появляется на древней земле бриттов, поскольку Британские острова являлись тем сборным пунктом, «в котором пересекались и сплетались в единый клубок судьбы тысяч и десятков тысяч скандинавских воинов» [9, с . 8].
Одна из позиций рассмотрения эпического мира или измерений эпической ойкумены, могущая быть обозначенной как «метафизически-мифологическая», предполагает отвлеченный от формальной географии и геометрии подход.
В целом мифическое сознание не разделяется по географо-этническим факторам, поэтому представления германцев, во всяком случае обитателей Северной Европы, ничем не отличались от представлений о мире и мировом пространстве любых иных этносов, существующих в той же временной плоскости и культурном пространстве.
Пространство условно делилось вертикально на миры alfheim/heofonrice (мир богов), middangeard (мир людей) и hel (мир смерти). Причем такое деление сохраняется и для «христианского» мировоззрения, где люди живут между раем и адом. Кроме того, для мира срединного существовало некое горизонтальное деление. В случае с германскими народами это деление на море и сушу. Оба этих пространства населяли существа из других миров, а также люди или иные обитатели. Особым смыслом наделялось море, поскольку имена моря входят в особый список кеннингов, эвфемизирующих сакральные слова. Доказательством тому служит само определение потустороннего мира, «находящегося за водой/рекой» [4, с. 77]. Другим доказательством особой роли водных пространств и жесткого разграничения их с сушей, населенной людьми, является сражение Беовульфа с морскими чудовищами, после чего была признана его доблесть. Символично, что Гренделя герой побеждает в сакральном пространстве суши, в дружинном доме людей, а потом одерживает вторую победу в вотчине зла — логове матери Гренделя. Примечательно также, что Грендель обитал в болотах, не являющихся ни морем, ни сушей, а неким средним образованием, которое, кроме того, характеризуется особой, коварной и нечестной гибельностью, словно пристанище хаоса.
И по суше, и по морю проходят дороги, а согласно исследованиям от профессора Толкина до самых современных исследований, например, Ю. А. Шишовой, мифологема пути занимала особое место в картине мира [10, с. 78]. Кроме того, подразумевает и средства передвижения и сопутствующие предметы, такие как корабли, лошади, повозки, посохи, сапоги, путеводные нити, сандалии и т. п. Особое место в мореходной культуре северогерманских племен отводилось кораблям. Морю посвящено огромное количество синонимических лексических единиц, слов, кеннингов и хейти: (10) hronrade ‘дорога китов’ , (48) holm ‘островок’ , (49) gersecg ‘пучина’ , (200) swanrade ‘дорога лебедей’ , (215) sund ‘плавание’ , lagu ‘озеро’ etc. Сакральность понятия корабля подтверждается тем количеством лексических единиц, которое употреблялось для обозначения судов: (32) hringedstefna
‘крутогрудый корабль’ , (35) scipe ‘торговое судно’ , (33) fær ‘судно’ , (38) ceol gegyrwan ‘ладья’ , bat ‘судно, челн’ , (220) wundenstefn ‘чудесный корабль’ , (210) flota famiheals ‘корабль пенисто-шейный’ , (208) sundwudu ‘корабль морское древо’, (216) wudubundenne ‘судно связанное дерево’ , (198) ydlidan ‘судно’ etc.
Христианство унаследовало языческие представления о пространстве. Природа для христиан раннего средневековья — это те же «четыре элемента, которые создают Вселенную и человека, Вселенную в миниатюре, микрокосм…» [3, с. 168]. До сих пор человечество пользуется условным обозначением четырех главных частей света, хотя для ориентации в пространстве этого числа недостаточно, четырех времен года, хотя для каждой местности их количество различается, и четырех времен дня. Это своеобразная мифологема четырех, прочно укоренившаяся в человеческом сознании и объединяющая пространственно-временные характеристики мира.
В целом подходы и точки зрения на мир одинаковы в своей субъективности вне зависимости, видит ли человек все сквозь призму «рациональности» или же цельно как при мифологическом подходе. Гипотеза, «уравнивающая» оба подхода, доказывающая, что «мифологическое» сознание как таковое характерно для любого времени, рационального или использующего мифологические механизмы описания, может быть доказана самим фактом понимания эпоса и мифа человеком «рационального» сознания. Более того, литература, создаваемая в современном обществе, использует в основе те же мотивы, образы и мифологемы, что были характерны для эпической поэзии.
Для человека эпической эпохи релевантным было деление времени на день и ночь, лето и зиму, годы. Доказательством этого факта служат «вневременность» эпоса, легкость перенесения сюжетов и героев, отсутствие упоминания точных временных измерений и единиц измерения в эпосе и текстах хроник (точное деление суток появилось лишь при введении христианства, когда службы в монастыре стали обозначаться часами полдень, полночь, третий час (15 часов), девятый час (9 утра) и т. д.).
Вышеуказанное есть репрезентация «мифологического» воззрения, сведенное к прямолинейным представлениям. Именно в таком «небрежном» подходе к описаниям, измеряемым в современном мире физическими величинами, и заключается их объединение. Они словно единая составляющая — характеристика мира.
Отделение двух точек зрения — реально-рациональной и мифологической — можно объяснить также мировоззренческо-религиозными изменениями в культурах. При описании «иного мира» язычники уделяли особое внимание составлению его схем. Схематический подход сложно назвать топографическим, ибо в точности описать невидимый, зыбкий мир невозможно, но можно представить ориентиры пути. Люди эпической эпохи жили «в совсем ином измерении времени и пространства, в котором география … мифа была более актуальной и значимой реальностью, нежели география железных дорог и великих строек страны великого Хама» [8, с. 130].
Более того, даже сам реальный окружающий «срединный» мир делится на так называемые «локусы» средоточия враждебных или дружелюбных сил для человека. В данном случае таковыми являются зал Хеорот, пещера под водой, болота.
Раннее христианское (или профанное христианское) и языческое мировоззрение по сути своей не сильно отличаются одно от другого, поскольку первое унаследовало от второго его мистическую природу и отношение к времени и пространству. Кроме того, главным смыслом жизни архаического человека являлось ожидание перехода в иной мир, а в глобальном аспекте — ожидание конца мира, будь то Рагнарек или Апокалипсис, внушающие ужас, но в то же время и надежду, ибо пророчества, предрекающие гибель мира в обоих случаях, похожи как и пророчества, говорящие о возрождении нового мира.
Что касается рационального и научного, физически доказанного подхода, то действительно существуют различные точки зрения Ньютона и Эдисона. Однако последние исследования показывают, что пространственно-временная категория, выделяемая учеными, как описание физических явлений, существующих во Вселенной, сливается в одну. В эпическом мире время как понятие настолько малозначимо с точки зрения его измерения, что сжимается в одну точку, сливаясь с пространством [8, с. 55]. Здесь, в эпическом тексте, содержащем в себе собственную холистическую модель окружающего мира, понятие Вселенной есть не просто астрономическое или аксиоматическое определение, в данном случае оно максимально приближается к «мифологическому». Тем самым общие категории, описанные в мифе, сохраненные в литературе и отринутые рациональной естественной наукой, вновь оказываются в фокусе исследования. Данное как аксиома и закрепленное в языковой памяти становится доказуемым физически. Такой подход позволяет сделать предположение, что мир вокруг, живущий объективной жизнью, в глазах «физиков» и «мифологов» становится единым, поэтому исчезает смысл самого спора о подходах. Эпическая поэзия — своего рода котел, куда заложено мифологическое сырье и где получается готовый культурный продукт современности, мировоззрение, прошедшее путь от лично-именного (мифологического) до универсально-понятийного (рационалистического) [7, с. 14].
Таким образом, холистическое, недискретное отношение к пространственновременной составляющей мироописания характерно и для сегодняшнего времени. Хронометрия неважна, когда важность фокусируется на самом факте или событии. Подобным образом действует и человеческая память — самый совершенный из данных нам механизмов.
Что касается пространства, то в данном случае действует настолько же свободное отношение. В поэме не описываются точные расстояния (пространство делится вертикально и горизонтально, а не на километры, метры и сантиметры), это неважно для развития сюжета произведения. Важно действие, важен миф, важен сам мир в совокупности, а не в разделении на части. В этом и есть суть мифа.
Список литературы Пространственный аспект характеристики топохрона в мифологической картине мира
- Гаспаров М. Л. Подстрочник и мера точности // О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. Санкт-Петербург: Азбука, 2001. С. 361-372. Текст: непосредственный. EDN: NYGDAN
- Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. Москва: Искусство, 1973. 318 с. Текст: непосредственный.
- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / перевод с французского, под общей редакцией В. А. Бабинцева; послесловие А. Я. Гуревича. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 568 с. Текст: непосредственный.
- Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. Москва: ВЛАДОС, 1996. 416 с. Текст: непосредственный.
- Никитин М. В. Основания когнитивной семантики. Санкт-Петербург: Из-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. 277 с. Текст: непосредственный. EDN: QRBTJH
- Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. Москва, 1993. 188 с. Текст: непосредственный. EDN: XFDNCX
- Петров М. К. Язык. Знак. Культура. Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 328 с. Текст: непосредственный.
- Теребихин Н. М. Метафизика Севера: монография. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2004. 272 с. Текст: непосредственный. EDN: QKENZL
- Хлевов А. А. Вступительная статья к книге Дж. П. Капера "Викинги Британии" / перевод с английского И. Ю. Ларионова. Санкт-Петербург: Евразия, 2003. 272 с. Текст: непосредственный.
- Шишова Ю. Л. Лингвистическая объективация мифологемы пути в современной англоязычной литературе: автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва, 2002. 14 с. Текст: непосредственный. EDN: QDUCFX