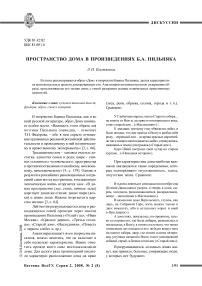Пространство дома в произведениях Б. А. Пильняка
Автор: Костякова Лариса Николаевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается образ «Дом» в творчестве Бориса Пильняка, дается характеристика контекстуальных средств, раскрывающих его. Анализируется концептуальное содержание образа, прослеживается его тесная связь с темой разорения основы изначальных нравственных ценностей.
Художественный текст, функция, образ, смысл, концепт
Короткий адрес: https://sciup.org/14970158
IDR: 14970158 | УДК: 81.42:82
Текст краткого сообщения Пространство дома в произведениях Б. А. Пильняка
В творчестве Бориса Пильняка, как и во всей русской литературе, образ Дома занимает особое место. «Важность этого образа для поэтики Пильняка очевидна, – отмечает Т.Н. Федорова, – ибо в нем скрыто отношение художника к реальной российской действительности и проводимому в ней политическому и нравственному эксперименту» [3, с. 66].
Традиционно дом – «символ счастья, достатка, единства семьи и рода; шире – символ освоенного, человеческого, пространства в противопоставлении стихийному, неосвоенному, нечеловеческому» [4, с. 139]. Однако в результате российских революционных потрясений сдвигаются все границы, в налаженную человеческую жизнь вторгается хаос. «В диком пространстве (лес, степь, вечные льды) царствует дикая же стихия: дикие звери (волки) и дикие люди. Нежить вторгается в царство жизни» [3, с. 64].
Лейтмотив разрушающегося дома и распадающихся семей проходит через многие произведения Пильняка («Голый год», «Иван Москва», «Красное дерево», «Третья столица», «Старый дом», «Наследники», «Повесть о черном хлебе» и др.).
Анализируя концепт дом в творчестве писателя, можно заметить, что он включает в себя несколько характеристик. Важно отметить прежде всего само местонахождение дома. Для целого ряда произведений писателя характерно расположение дома на краю
(леса, реки, обрыва, склона, города и т. п.). Сравните:
У Глебычева оврага, около Старого собора... на взвозе от Волги, застряв от позапрошлого века, стоит старый дом... («Наследники») 1.
К двадцать третьему году обвалился лабаз, и было похоже, что дом прыгал в Волгу и разбил себе рожу – охренный дом – до крови красных кирпичей, да так и замер в своем скачке на дыбах, сдвинувшись, вжавшись в землю для прыжка («Старый дом»).
Карл Шваб построил свой хутор на старом кургане... («Немецкая история»).
При характеристике дома наиболее важными оказываются такие определения, которые подчеркивают опустошенность, холод, отсутствие тепла. Сравните:
В тысяча девятьсот семнадцатом октябре она (Ксения Давыдовна) умерла, и теперь в доме, сыром, холодном, разваливающемся, раскраденном, живут – наследники («Наследники»).
В каменном доме Веральского, глухом, как ларь, на Сибриной Горе, жить можно только в двух комнатах, ибо в остальных мороз и иней («При дверях»).
А дом стоял, показалось, по-прежнему, только та сторона его, где были амбары, развалилась и посыпалась в Волгу, а потом стало ясно, что пепел отошедших лет посыпал и его: не было вокруг него ни одного забора, двор, где стояли тысячи пятериков, уступами шедший к Волге, полег залишаевшей собакой, серый, в белине и полыни («Старый дом»).
В разрушающихся, холодных домах живут, как правило, больные, умирающие люди, у которых нет будущего.
В каждой избе были смерть, в каждой избе под образами лежали горячечные, отдавшие душу господу так же, как жили: покойно и жестоко («Тысяча лет»).
Гнездо разорено – гнездо стервятников. Хищные были люди. Силы у Вильяшевых было много: обессилела сила («Тысяча лет»).
Некогда в доме давались балы и жил именитый дворянский род Расторовых, последние двадцать лет в доме, вместе с домом, умирала старая хозяйка его, Ксения Давыдовна, старая дева («Наследники»).
Структура дома строго иерархична. Наиболее ярко это проявляется в романе «Голый год» на примере дома Ордыниных, подробному описанию которого посвящена первая часть второй главы романа.
В самом начале главы автор обращает внимание читателя на уцелевшие остатки некогда богатого, состоятельного дома: часы у зеркала – бронзовые пастух и пастушка ; лепной пооб-валившийся потолок... дробится в люстре – тоже еще уцелевшей ; в зале на стенах старинные портреты без рам ; огромный, желтый рояль ощерился, как бульдог ; тускло поблескивают зеркала, те, что попорчены и помутнели . Род некогда могущественных князей Ордыниных вымирает, а вместе с ними умирает и строившийся на многие века дом.
За те два года, что не было Глеба, дом верно полетел в пропасть, – он, большой дом, собиравшийся столетием, ставший трехсаженным фундаментом, как на трех китах, в один год полысел, посыпался, повалился. «Впрочем, – добавляет автор, – каинова печать припечатана уже давно» («Голый год»).
Картину обреченности дома, противопоставленной былой добротности, автор выразительно создает путем плотной концентрации средств художественной выразительности. Сравните: полетел в пропасть ; как на трех китах ; полысел ; каинова печать .
В доме, где некогда породнились дворянство и купечество, нет единства даже между матерью и отцом, живущими обособленно и поддерживающими связь с внешним миром лишь через полуоткрытую дверь.
Около спальной матери, в полуоткрытую дверь слышен храп – матери, урожденной Попко- вой, и Елены Ермиловны, и оттуда пахнет несвежим человеческим телом. В комнате отца, – через щель видит Глеб, – у киота горит много тусклых лампад и высоких, тонких свечей... («Голый год»).
В былые времена дом жил совершенно иной жизнью. О его открытости внешнему миру и былых широких общественных связях говорит сохранившаяся широкая лестница.
В подъезде идет широкая лестница вниз, в корытце истоптанная тысячами ног («Голый год»).
Однако сейчас здесь холодно, пахнет зимой, сыростью и гнилыми мхами .
Противопоставленность двух состояний в разные временные периоды (раньше – сейчас) присутствует в описании каждой части дома. Сравните:
По бокам, направо и налево, уходят двери в кладовые – тяжелые железные двери за семью замками: за дверями хранилось богатство Попковых, собираемое (грабленое, должно быть?) веками и развеянное теперь – по базарам, по отделам утилизации и коммунхоза («Голый год»).
Как отмечает И. Трофимов, лестница, ведущая вниз, в зависимости от художественной задачи автора может быть «широкой» для демонстрации былых отношений с миром и «узкой», когда создается образ зажатого, ограниченного какими-либо нормами сознания, отчужденного от большого пространства [2, с. 107].
По узкой лестнице, выбитыми ступеньками и скрипучими перилами, Егор тихо идет вниз, в полуподвал, где широки и тяжелы каменные стены в сырости и тускло млеют в железных решетках оконца. Узкий коридор с каменным полом заставлен пустыми ларями, а на пустых ларях пудовые замки, и ключи под подушкой у матери («Голый год»).
«Так хранилище купеческого богатства – полуподвал с ларями (уже пустыми) – становится тюрьмой со всеми присущими ей атрибутами. И пустые лари с пудовыми замками несут в себе угрозу вечного заточения (как гробы в семейной усыпальнице)» [2, с. 107].
На подобный тюремный ларь походит и комната больного, вечно пьяного, отстранившегося от жизни Егора Ордынина.
Потолки в комнате Егора сводчаты и низки. И здесь замурованы окна, с низкого окна течет каплями сырость, и в сырости на подоконнике – лоскутья нотной бумаги. Егор лежит на кровати, на спине, положив руки на грудь, худой и хрипящий в дыхании. Красные его воспаленные глаза смотрят мутно на дверь («Голый год»).
Холод и одиночество сопровождают в родном доме и старшего брата, Бориса, безуспешно пытающегося согреться у печных изразцов.
В своей комнате Борис останавливается у печки, прислоняется плечом к холодным ее изразцам, машинально, по привычке, оставшейся еще от зимы, рукою шарит по изразцам и прижимается – грудью, животом, коленами – к мертвому печному холоду («Голый год»).
В данном контексте основную смысловую нагрузку несут на себе единицы холодный – мертвый – холод , которые продолжают идею разорения, хаоса и смерти.
Описание каждой комнаты в доме – это дополнительная характеристика соответствующего персонажа. Сравните, например, описания комнат матери и отца:
За решетками окон светлый рассвет, а в темной комнате Арины Давыдовны темно, обильно наставлены шкафы, шифоньеры, комоды, две деревянные кровати под пологами. На темных стенах, в круглых рамках – едва можно разобрать – головные висят выцветшие портретики и фотографии...
Комната отца похожа на сектантскую молельню. Красный угол и стены в образах, строго смотрит темный Христос из кивота, мутные горят у образов лампады и светлые высокие восковые свечи, а перед кивотом маленький на-лойчик со священными книгами. И больше ничего нет в комнате, только у задней стены, около лежанки, скамья, на которой спит отец, князь Евграф... Сумрак церковный в комнате, спущены плотные гардины у окон – днем и ночью, чтобы не было света, и лишь тоска по нему («Голый год»).
Иной предстает перед читателем часть дома, где живут дочери, сестры Лидия, Наталья и Катерина.
Низки здесь потолки и светло здесь – белы стены и квадратные оконца открыты («Голый год»).
Свет, белые стены, открытые оконца – все это связь с миром, который может подарить надежду на продолжение жизни, рода.
А за открытыми оконцами в парке, над миром идет июнь. Над миром, над городом шел июнь, всегда прекрасный, всегда необыкновенный, в хрустальных его восходах, в росных утрах, в светлых его днях и ночах. В девичьих антресолях низки потолки, белы стены, и жужжат медвяные пчелы в открытых квадратных оконцах («Голый год»).
Окно в произведениях Б. Пильняка является также символическим элементом и служит средством дополнительной характеристики персонажа. По наблюдениям И. Трофимова, обитатели дома Ордыниных располагаются в ряду авторских оценок следующим образом: а) отсутствие окна – в комнате отца, в покаянии закупорившего себя в четырех стенах, лишенных света ( Всю жизнь раз-гульничал отец, князь Ордынин... из пьяного князя стал аскетом, днями и ночами в молитве ); б) за решетками окон темная комната матери, Арины Давыдовны; в) в комнате Егора Евграфовича Ордынина, потерявшего человеческий облик в разврате, потерявшего «закон», замурованы окна ; г) «девственник» Глеб, художник, не спящий ночами в тяжелых размышлениях о путях истории, духовной сущности искусства, обычно показан «у окна», «на окне», что усиливает драматизм качественного перехода из одного состояния в другое, глубину психологического напряжения; д) неприкаянный Борис Ордынин, бродящий по ночам в бессоннице, потерявший веру, достоин лишь «приближаться к окну», но не обладать им; е) открыты окна лишь в антресолях, где живут дочери [2, с. 109].
Увядает и родовое имение князей Орды-ниных – Поречье, ставшее местом обитания анархистов. С гибелью коммуны анархистов покидает имение Андрей Ордынин. Прощаясь с домом, он обходит комнаты, осматривает опустошенные ящики стола. «Дом еще полон вещей, но они уже не вписываются в круг человеческого существования... Разоренный и униженный Дом не хочет и не может стать жилищем, собирающим под своей крышей людей. Из него уходит время, хранителем которого были часы работы Кувалдина, мастера восемнадцатого века, пострадавшие наряду с письменным столом...» [там же, с. 112]. Дом не принимает и сельскохозяйственной коммуны, организованной советской властью, и это также свидетельство обреченности. Последние строки, посвященные описанию жизни коммуны, – ночь шла черная, черствая, осенняя, – шла над пустыми полями, холодными и мертвыми – не вселяют оптимизма и веры в будущее.
Тема разорения Дома как основы изначальных нравственных ценностей продолжается писателем в «Красном дереве», где перед читателем предстают некогда комфортная, а ныне полуразвалившаяся усадьба Каразиных; полуподвал семьи Тучковых, отпертый, как во всех нищих домах; временное пристанище Каразиных – квартира почтового извозчика. «Ключом к трактовке образа Дома, созданного Пильняком в “Красном дереве”, – отмечает Т.Н. Федорова, – становится одно из представлений, сложившихся в народной культуре: видеть во сне дом без окон – старый, неухоженный, или новый незнакомый дом – к смерти, последний дом – строящийся гроб (домовина). В “Красном дереве” образ оставшегося порожним дома вполне вписывается в контекст обозначенной традиции и превращается в скорбный символ разрушающейся на глазах жизни, в преддверие трагедии, в знак беды, в грозное пророчество, в метафору конца. Если учесть, что образ оставшегося порожним нового дома не единственный в повести, то Дом как универсальная пространственная категория “Красного дерева” утрачивает свой первичный позитивный смысл» [3, с. 65]. Дома в значении пространственной категории, преисполненной созидательного, нравственного, общечеловеческого смысла, который отразился в большинстве народных представлений, в «Красном дереве» нет. Не является домом печная яма, ставшая местом обитания «охломона-коммуниста» Ивана Ожогова. Печь кирпичного завода – некий сакральный центр «дома», который для бродяг всюду и которого у них нет. Как мифопоэтическая категория печь обладает маргинальными свойствами перехода от жизни к смерти, играет особую роль во внутреннем пространстве обитания охломонов. Яма, подземелье – это не дом, а какое-то адово пространство (не случайно оно направлено вниз), освещенное красным провалом, огненным пожирающим печным ртом. Всюду, куда бы ни обращался взгляд автора, – только подобие жизни, только иллюзия дома [там же].
В противовес безжизненности некогда богатых и влиятельных домов в творчестве Б. Пильняка жизнеутверждающе звучит тема крестьянской избы.
Покинув усадьбу в Поречье, князь Андрей Ордынин находит временное пристанище в мужицкой избе в селе Махмытка. И здесь, лежа на полу, князь испытывает истинное счастье вместе с избами, проеденными вшами, клопами, блохами, чесоточным клещом, тараканами, прокопченными, вонючими, где живут вместе люди, телята, свиньи («Голый год»). Крестьянская изба в отличие от обиталища Ордыниных (дом в городе, поместье) – не обустроенный мир культуры, а естественное продолжение природы как обустроенного космоса, где люди, телята, свиньи, тараканы, вши и прочие находят свое место, словно в ковчеге Ноя. Здесь та же демонстрация всего живого, к которой читатель мог привыкнуть уже, познакомившись с новокрестьянской поэзией (Н. Клюев, С. Есенин, С. Клычков и др.). Как заметил И. Трофимов, Э. Мекш в книге «Образ Великой Матери (религиозно-мифологические традиции в эпическом творчестве Николая Клюева)», анализируя поэму «Мать-Суббота», пишет: «В фабульном отношении поэма “Мать-Суббота” проста: она показывает процесс выпечки хлеба в крестьянском доме. Но этот обыденный трудовой процесс разворачивается в поэме в мистический сакральный ритуал смерти-рождения, вбирающий в себя евхаристическое содержание. Деревенская изба становится центром («пупом», как любил говорить поэт) мироздания, население которого, состоящее не только из людей, но и представителей флоры и фауны, живет по законам гармонии и красоты [2, с. 112].
Здесь, в избе, все иное, даже запахи. Именно их ощущает Андрей Волкович, когда приходит, покинув город, в Черные Речки и направляется в избу деда Егорки.
В избе пахло травами, и хлеба и меда – первого меда – подала ему Арина («Голый год»).
Здесь, в Черных Речках, приходит Андрей к мысли об иной свободе, – свободе изнутри, не извне: отказаться от вещей, от времени, ничего не иметь, не желать и не жалеть, быть нищим, – только жить, чтобы видеть, с картошкой ли, с кислой капустой, в избе ли, свободным ли, – безразлично: пусть стихии взвихрят и забросят, всегда останется душа свежей и тихой, чтобы видеть («Голый год»). К этой мысли приходит он, живя среди мужиков, наблюдая и постигая мудрость и простоту деревенской жизни. Здесь с весны и по осень работали изо всех жил, от зари до зари, от стара до мала, обгорая от солнца и пота... Жили трудно и сурово – и любили свою жизнь крепко, с ее домом, холодом и зноем, немо-готою («Голый год»). Здесь не помнят имен своих предков, но помнят, как жили пращуры и прадеды и как надо жить.
Тема крестьянской избы продолжается в романе описанием избы сектанта Доната. Здесь автор вновь обращает внимание читателя на запахи: в избе, в тепле пахло шалфеем, полынью и другими лекарственными травами . Просторная изба хозяйственная, убранная, чистая . Здесь нет ничего лишнего, каждая вещь имеет свое место.
В сектантскую избу Марка уходит из коммуны анархистов и Ирина. Все здесь, у сектантов, разумно и добротно. Все мужчины были здоровы и широкоплечи, как Марк, и женщины – красивы, здоровы и опрятны, – все в белом – сразу отмечает Ирина. Ее, вступающую в новую жизнь вместе с Марком, напутствует Донат основными постулатами сектантской жизни: один за всех и все за одного, из избы сор не выносить, в дом придут – накорми, напои, чествуй, все отдай, всем поделись .
В ряду единиц, формирующих образ Дома, важное место занимает в творчестве Б. Пильняка баня. С одной стороны, анализируя «Красное дерево», Т.Н. Федорова отмечает: «Нарушение “космоса” Дома приводит к смещению всех других пространственных мифопоэтических координат: люди из дома перемещаются в баню (нечистое место). Именно здесь дьякон из “Метели” ищет слово как точку опоры, как начало мироздания (не случайно его занимают проблемы обре- тения человеком первых культурных навыков). В бане (“на курьих ножках”) веселится компания “бывших” во главе с лишенной дома хозяйкой Аришей Рытовой (ср.: “рытвина” – яма, ухаб, могила). В бане устраивают оргии братья Бездетовы» [3, с. 64].
В натуралистических подробностях деталей дает о себе знать не ужас перед реальной действительностью, не протест против потрясения простейших основ человеческого существования, а эстетическое удовлетворение художника, воочию узревшего «судный день [3, с. 185].
Перемещая действие романа из железнодорожных теплушек, являющих собой «последнюю степень бездомности» [2, с. 115], в баню села Старый Курдюм, автор показывает нам после «страшного суда» очищение, когда человек, освобождаясь от накопившейся грязи, омывает себя водой и тем самым возрождается не только физически, но и духовно. Примечательно, что сцена банной процедуры повторяется автором еще раз в заключении, когда за два дня до Покрова, ночью, выпадает снег. Именно в этот день, который в православии считается днем обновления, в Черных Речках топят бани.
На рассвете девки, босиком по снегу, с подоткнутыми подолами таскали воду, топили весь день курные печи. В избах старшие разводили золу, собирали рубашки, и к сумеркам семьями пошли париться («Голый год»).
Описание самой процедуры в точности повторяет аналогичную сцену в Старом Кур-дюме. Сравните:
В банях не было труб, в дыму, в паре, в красных печных отсветах, в тесноте толкались белые человеческие тела, мужские и женские, мылись одним и тем же щелоком, спины всем тер большак, и окупываться бегали все на реку, в серой вечерней изморози, в холодном ветре («Голый год»).
После банной сцены автор переходит к девичьей молитве крестьянки Ульянки:
– Мати Пресвятая Богородица, покрой землю снежком, а меня женишком («Голый год»).
И заканчивается роман свадьбой.
Роспись. У светца старик, палит лучина, в красном углу Ульяна Макаровна – в белой одежде невеста, на столе самовар, угощенья. За столом – гости, Алексей Семеныч, со сватьями и сватами («Голый год»).
Таким образом, как отмечает И. Трофимов, баня становится местом любовного таинства, результат которого – брачное торжество, крепящее Дом [2, с. 118]. Дом как концентрация духовной энергии, создающей тот или иной тип культуры (дворянской, купеческой, мещанской, крестьянской, сектантской и т. п.) сменяется Домом, сберегающим плотское, любовное соитие. Разору, разрушительной страсти революционной стихии Б. Пильняк противопоставляет свадьбу.
По замечанию Т.Н. Федоровой, «возможно, дом в системе поэтических категорий художественного мира Пильняка и является тем самым сверхобразом, который одновременно олицетворяет разор единого Русского Дома и служит его преодолению» [3, с. 66]. В нем реализовалось авторское представление об утрате прежних нравственных ориентиров, о полной стагнации, ибо постоянство – это не всегда признак прочности, гораздо чаще оно превращается в признак косности. И в этом смысле лишенная «домов» русская жизнь, ее мракобесие, абсурд осознается художником в аспекте апокалиптических представлений [3, с. 66].
Список литературы Пространство дома в произведениях Б. А. Пильняка
- Пильняк, Б. А. Собрание сочинений: в 8 т./Бор. Пильняк. -М.; Л., 1930.
- Трофимов, И. В. Провинция Бориса Пильняка/И. В. Трофимов; Даугавпилс. пед. ун-т, Каф. рус. лит. и культуры. -Даугавпилс, 1998. -129 с.
- Федорова, Т. Н. Образ дома в повестях Б. Пильняка «Иван Москва» и «Красное дерево»/Т. Н. Федорова//Б. А. Пильняк. Исследования и материалы: межвуз. сб. науч. тр./отв. ред. А. П. Ауэр. -Вып. 3/4. -Коломна: Изд-во КГПИ, 2001. -С. 63-67.
- Энциклопедия символов, знаков, эмблем/авт.-сост. К. Королев. -М.: Эксмо; СПб.: Мид-гард, 2005. -356 с.