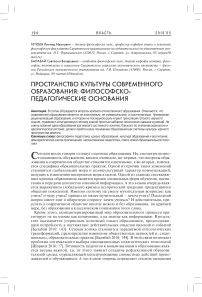Пространство культуры современного образования: философско-педагогические основания
Автор: Тетюев Леонид Иванович, Балабай Светлана Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются вопросы кризиса отечественного образования. Отмечается, что современное образование является не эпистемным, не универсальным, а политехничным. Чрезмерная рационализация образования, в котором не последнюю роль играет трансляция готового научного знания, подменяет интегративную систему знаний простым набором технических навыков и умений. На смену прежней идеи образования как некоего системного понятия, близкого по значению идеологии и идеологической системе, должно прийти новое понимание образования как системы культуры единого пространства диалога.
Философия и педагогика, кризис образования, культура образования и воспитания, демократическая школа просвещения, неокантианская педагогика, поиск новой образовательной политики
Короткий адрес: https://sciup.org/170171009
IDR: 170171009 | DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6741
Текст научной статьи Пространство культуры современного образования: философско-педагогические основания
С егодня много говорят и пишут о кризисе образования. Но, несмотря на многоплановость обсуждения, вполне очевидно, во-первых, что вопросы образования в современном обществе становятся ключевыми, а во-вторых, изменяется специфика образовательных практик. Одной из причин таких изменений становятся глобализация мира и поликультурный характер коммуникаций, ведущих к изменению восприятия мира в целом. Одной из главных составляющих кризиса образования является кризис социальных форм обучения, воспитания и передачи ценностно значимой информации. А это в свою очередь является выражением глобального кризиса исторической традиции продуктивного общения поколений. Именно поэтому на смену мучительным вопросам: как учить? и чему учить? пришел не менее мучительный – зачем учить? Последний вопрос имеет еще и оборотную сторону: зачем учиться? И действительно, преуспеть в современном обществе вполне можно и без образования, по крайней мере, без образования в классическом понимании этого слова.
Кроме этого, компьютеризированный мир образовательного процесса ориентирует не на знание как понимание, а на знание как информацию. В результате оказывается утерянным конечный смысл образования, предполагающий потребность в постижении действительных смыслов явлений и событий [Балабай 2010: 143]. Сетевая логика становится парадигмой онтологических трансформаций, предопределяя изменение общественных ценностей и, следовательно, образовательных практик [Балабай 2010: 144]. В этой связи возникает проблема оптимального выбора инновационных педагогических технологий [Шорина 2016: 17]. Готовность педагогов к новым вызовам в образовании является весьма важной, т.к. от этого зависит создание рефлексивной образовательной среды, определяющей конструирование совместных действий преподавателей и обучающихся. А это в свою очередь определяет степень овладения рефлексивными умениями [Шорина 2017: 113], которые предопределяют не просто решение конкретных задач, а осмысленный творческий подход в образовательном процессе.
Констатация кризиса в образовании и отсутствия философской доктрины его преодоления важна, прежде всего, с точки зрения привлечения внимания ученых и широкой общественности к данной проблеме. Но еще более важен конструктивный подход: обоснование приоритетной проблематики и, главное, работоспособных практикоориентированных концепций не только в философии образования, но и в сфере образовательной политики и стратегии применительно ко всем компонентам системы образования [Тетюев 2013б].
Традиционно в философии само понятие «образование» выступает системным понятием. На наш взгляд, именно пространство культуры определяет фокус изменений, происходящих в современном образовании, как в общем, так и профессиональном. Культура образования человека как разумного существа тождественна в этом смысле идеалу человечности – конечной цели культурного развития человека, внутренних принципов утверждения его самостоятельного мышления и личной свободы. В этой связи становится очевидным, что образование – это не «учебная подготовка к чему-то, к профессии, специальности, ко всякого рода производительности, и уж тем более образование существует не ради такой учебной подготовки, образование является категорией бытия и, следовательно, “обязанностью человека перед самим собой”» [Шелер 1994: 31]. Г. Гегель отмечал, что человек обязан «поднять свое отдельное существо до своей всеобщей природы – образовывать себя» [Гегель 1971: 61].
В современных исследованиях по проблемам образования, как правило, акцентируются сущностные, ценностные аспекты образовательного знания, без которых нет человека, нации, народа, культуры. Безусловно, высшая цель образования – формирование гуманистических ценностей и становление личности, умеющей расшифровывать глубинные смыслы бытия. Отсюда становится понятным, почему высшей целью педагогики являются долгий и непрерывный путь просвещения и воспитания граждан, идея образования человека, но ни в коем случае не простое, хотя и полезное, следование разнородным картинам политического поведения или принципам чужого руководства.
Вместе с тем, если непредвзято оценить современную ситуацию в общей педагогике, то она вызывает сомнение в возможности понимания педагогики как системы научного знания. Педагогика находится во власти позитивистской, или узко сциентистской, методологии, восходящей к научной доктрине имперсонального знания и технологической систематизации. Поэтому не удивительно, что в качестве фундаментального базиса современной отечественной педагогики выступают прежние теоретические установки обществоведческой и социологической проблематики. Педагогика понимается не как философская дисциплина, но шире – как общественная наука, объектом исследования которой являются политические интересы общества, его идеологическая составляющая. Задачи современной педагогики определяются прежним принципом «партийного интереса», мировоззренческим стержнем которого выступает предписание о создании «объективных условий» нормального функционирования «духовной жизни общества».
Проблематичность общей педагогики, ее целей и задач исходит из внутреннего противоречия ее методологических оснований. Так, при принятии идеологии в качестве центрального ядра и принципа содержательной систематизации педагогика вынуждена опираться на данные, смежные с ее предметом, знания эмпирических наук типа психологии или физиологии человека. Вследствие этого ее основная цель и ее первичная задача определяются исключительно обычным набором частного теоретического обобщения, отчего предмет педагогики остается бессодержательным и пустым понятием. С позиции философской критики современная педагогика оказывается несостоятельной наукой. Теория воспитания, например, сегодня основывается на расхожих теориях социологии, политологии, общей физиологии или психологии мышления.
Общеобразовательная и воспитательная проблематика страдает, однако, и другой крайностью. Научной и метатеоретической основой педагогики могут выступать различные естественнонаучные и экспериментальные парадигмы, что свидетельствует о чрезмерной рационализации и сциентизации ее образовательных принципов и методов.
И это понятно, поскольку переосмысление методологических составляющих педагогики, ее концептуального инструментария, находящегося в арсенале педагогического знания, непосредственно связано с положением дел в самой философии. Сегодня все чаще высказывается мнение, что система образования в современных условиях имеет поликонцептуальный характер, поскольку это напрямую связано с областью философской рефлексии и обоснованием исходных принципов практического действия. А это значит, что система образования обладает высокой степенью свободы выбора теоретических принципов и их интерпретаций. Поэтому на смену прежней идее образования как некоего системного понятия, близкого по значению идеологии, должно прийти новое понимание системы образования – как системы культуры единого пространства диалога . Это поистине раскрывает новые, не реализованные ранее возможности для поиска приемлемых теоретических моделей образования.
Политика в области образования не есть детище кабинетных игр министерств и ведомств, причастных к той или иной сфере народного образования, но есть общее дело университетов, есть их живительный принцип, неотъемлемая основа их безусловной автономии как единой системы свободы самоуправления, преподавания, учения и исследования. Нет необходимости отрицать, что только университетская политика в сфере образования способна ставить основной вопрос всякого образования вообще. Это вопрос о реализации полноты знания в сфере науки и культуры, соединяющего в себе многообразие существующих теорий и практик точных и естественных наук, наук языковедческого и гуманитарного цикла, философии и культурологических дисциплин.
При этом надо отдавать себе отчет, что в подобной перспективе наука должна пониматься не просто как система готового исторически сформировавшегося знания. Изменения института школы является закономерным явлением, однако необходимо понимать, что процесс образования в самой своей сущности противоречив. Образование предполагает нормативность, стандартность, эталонность, традиционность и преемственность и вместе с тем креативность, новаторство, оригинальность. На эту особенность образования обратил внимание Дж. Дьюи, отметивший, что само понятие «учение» антиномично. С одной стороны, учение обозначает существующее знание, как оно передано книгами и образованными людьми; как нечто внешнее, накопленное знание, готовое к употреблению, как бы находящееся на хранении. С другой стороны, под учением понимаются конкретные действия человека, получающего знания, и в этом смысле учение – активная, лично осуществляемая деятельность. Здесь возникает дуализм знания как чего-то внешнего, или, как это часто называют, объективного, и чисто внутреннего, субъективного, психологического. На одном полюсе располагается корпус готовых истин, а на другом – ум, оснащенный способностью познания [Дьюи 1995: 302].
Сведение образования только к научному знанию с его доказательностью, объективностью, верифицируемостью и фальсифицируемостью являлось про- грессом общественного развития. Однако рационализация образования, в котором не последнюю роль сыграла трансляция готового научного знания, привела к подмене интегративной системы знаний (эпистемы) простым набором технических навыков и умений (техно). Современное образование не эпистемно, не универсально, а политехнично. Благодаря технологическим достижениям цивилизации профессиональное образование имеет рецептурно-номиналистический характер, и его оказывается достаточно для социально успешного функционирования человека. Однако здесь таится опасность: традиционно организованное общее образование не способно формировать универсальное мировоззрение и абсолютно непригодно для развития способности человека воспринимать бытие целостного мира в его существенных проявлениях, а значит, не может быть инструментом воспитания человека как личности [Балабай 2010: 145].
Вместе с тем в обществе всегда существовала другая школа, она развивалась и совершенствовалась вместе с культурой общества и традиционно свои задачи связывала с целостной жизнью общества, жизнью индивида, его внутренним миром, его душой. Условно эту школу можно назвать демократической школой просвещения , т.е. школой развития и совершенствования познавательных задатков и нравственных начал личности. В истории педагогической мысли эту школу не воспринимали никогда как единую школу просвещения; многогранный и многомерный мир ее трудно поддавался рефлексии. И только сегодня впервые появляется возможность непредвзято зафиксировать весь масштаб и тип этой идеальной школы, определить ее единую объемную цель и задачу, в решении которой лежит ключ к плодотворному осмыслению всей сферы образования и воспитания.
Сама идея школы просвещения вынашивалась давно: со времен философских школ античности — Академии Платона и Лицея Аристотеля, которые обладали полною независимостью по отношению к государству и не знали притязаний религии. Философские школы не только символизировали собой алтарь научного знания, но и выступали как хранители научного философского знания. Союз философов, ученых и учащихся представлял собой идеальный образ школы просвещения. И все же свое массовое воплощение школа просвещения получила лишь в средние века. Наряду с университетами, в Европе она существовала внутри христианских монашеских движений, воплощалась в форме дворцовых, городских и приходских школ, частных колледжей и даже так называемых свободных университетов. В них преподавали не только учителя, богословы или ученые, но и приглашались философы, писатели, художники, летописцы, переводчики с латинского, греческого и древнееврейского языков.
Своеобразие форм и методов образовательной и воспитательной практики показывает, что средневековые учебные тексты не только носили богословский характер, но и включали в себя рассуждения и поучения из сводов этики и эстетики, приемы обучения искусству логики и красноречия.
Как видим, в истории европейской системы образования школа просвещения сформировалась вдали от рациональных систем знания и схоластических школ и университетов, поскольку уделяла в своей практике большое внимание вненаучным методам познания: в процессе преподавания и обучения она стремилась к развитию интуиции, воображения и творческой фантазии. Школа просвещения, как мы убедились, использует и иные ценностные ориентации: ценности общечеловеческого бытия, т.е. как научные и религиозные, так и метафизические идеи, нравственные оценки и возвышенные идеалы.
Но только в Новое время, в отличие от всех предыдущих столетий в культурной истории Европы, стремящейся к идеалам просвещенного разума, возникло твердое убеждение, что мышление человека за пределами эмпирического, опыт- ного знания являет собой особый тип философского образа мыслей и действия, качественно отличный от типа мысли точных, естественных и исторических наук. Таким флагманом на пути познания великих тайн мироздания в истории человечества стала «Критика чистого разума» И. Канта. Именно в ней впервые философ определил, что опытное, историческое знание изначально всегда ограничено случайными событиями и определенным во времени частным опытом. Поэтому должны существовать такие всеобщие для всякого отдельного случая, обязательные и даже своего рода исходные причинные условия, которые делали бы впервые возможным сам опыт как таковой вообще. На уровне существования человека во Вселенной таковыми выступают его собственные познавательные способности души – чувственность, рассудок и разум. Доопытное, априорное знание И. Кант не ограничивает только сферой образа мыслей, оно расширяется за его пределы – в область практического, нравственного поведения, находит прекрасное и возвышенное воплощение их образа в виде эстетической и рефлектирующей способности суждения.
Позднее подобные мысли стали звучать уже в неокантианской педагогике. Педагогическая рефлексия неокантианства складывалась, однако, не сразу, и как школа методических исследований она имеет длительный опыт критического осмысления всевозможных кризисных и застойных явлений, происходящих в европейской системе образования. Педагоги-новаторы и философы А. Петцельт, Р. Хенигсвальд, Й. Коэн считали, что понимание педагогики не должно замыкаться на своих сугубо внутренних научных и теоретических проблемах, но необходимым образом – в методике образования и дидактике воспитания – должна способствовать обучению индивидуальной личности самостоятельно делать морально-практические выводы. В противном случае личность и ее всякое разумное индивидуальное проявление окажутся неспособными свободно осуществлять практическое полагание собственного бытия и в ряду временно действующих, случайных условий и причин превратятся в животное и стадное существо, бытийствующее в одном каузальном ряду с объектами природного мира. Поэтому воспитание, по мнению неокантианских педагогов, есть не просто морализаторское наставление и поучение, но особый момент образования воли; оно связано не с тем в человеке, что он есть сам по себе, но с целью его человеческого бытия, с идеей свободы и идеалом нравственного долженствования. Возвышение к этическому долженствованию всегда основывается на воле, и реальное воспитание воли в неокантианстве видится в свете трех основополагающих принципов: домашнего воспитания, школьного воспитания и свободного самовоспитания [Тетюев 2013а: 180-182].
Ключевым вопросом русской школы неокантианской педагогики (А. Введенский, С. Гессен) выступала также разработка методологической программы – развитие российского потенциала мировой культуры. К этой программе духовного потенциала проявляли частный и личный интерес прежде всего сами российские педагоги, деятели науки и культуры, меценаты и промышленники.
Как видим, современное отрицание идеала свободного, практически-нрав-ственного воспитания ставит под сомнение не только основные положения высшей педагогики, но и основополагающие принципы самой университетской политики в сфере образования. А это значит, что сама политика в сфере образования не должна в качестве общей программы методологии научного образования избирать только узкосциентистские, пусть даже традиционные или новаторские, стратегии образования, но должна учитывать многообразие форм и способов познания человеческого мира – культуру, язык, обычаи и нравы, эстетические чаяния, надежды и религиозные верования.
Другими словами, образовательная политика должна осуществляться конкретно не в рамках одной или двух, зачастую противоположных друг другу, стратегических программ, или, как их часто определяют, концепций противостояния, но исключительно на базе целого ряда творчески способных к здоровой конкуренции методологических школ и направлений.
Список литературы Пространство культуры современного образования: философско-педагогические основания
- Балабай С.В. 2010. Ценностное измерение образовательных практик. - Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. № 4(33). С. 142-146
- Гегель Г. 1971. Философская пропедевтика. - Работы разных лет. М.: Наука. Т. 2. 345 с
- Дьюи Дж. 1995. Демократия и образование. М.: Наука. 382 с
- Тетюев Л.И. 2013а. Трансцендентальный метод в педагогике. Пауль Наторп и неокантианская теория воспитания. - Философия Канта и основания практической философии: монография (под общ. ред. В.Н. Белова, Л.И. Тетюева). Саратов: Новый Проект. С. 180-188
- Тетюев Л.И. 2013б. Основы философской дидактики. Опыт рефлексии. - Образование в современном мире: сборник научных статей. Саратов: Изд-во Саратовского университета. С. 183-189
- Шелер М. 1994. Избранные произведения. М.: Наука. 345 с
- Шорина А.В. 2016. Рефлексивные умения как образовательный результат. - Глобальный научный потенциал. № 7(64). С. 17-22
- Шорина А.В. 2017. Психолого-педагогические условия формирования рефлексивных умений студентов вуза. - Общество; социология, психология, педагогика. № 5. С. 113-116