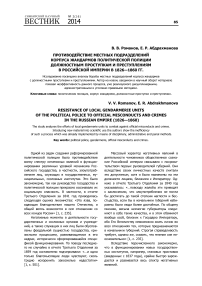Противодействие местных подразделений корпуса жандармов политической полиции должностным проступкам и преступлениями в Российской империи в 1826-1860 гг.
Автор: Романов В.В., Абдрахманова Е.Р.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Юриспруденция
Статья в выпуске: 2 (16), 2014 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено анализу борьбы местных подразделений корпуса жандармов с должностными проступками и преступлениями. Автор на новом, вводимом в научный оборот материале показал неэффективность данного процесса, уже реализуемого дисциплинарными, административными и уголовно-правовыми методами.
Политическая полиция, корпус жандармов, должностные проступки и преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/14113933
IDR: 14113933
Текст научной статьи Противодействие местных подразделений корпуса жандармов политической полиции должностным проступкам и преступлениями в Российской империи в 1826-1860 гг.
Одной из задач создания реформированной политической полиции было противодействие всему спектру негативных явлений в функционировании различных уровней механизма Российского государства, в частности, злоупотреблениям лиц, служащих в государственных, муниципальных, сословных институтах. Это было закономерно, так как руководство государства и политической полиции прекрасно осознавало их социальную опасность. В частности, в отчете Третьего Отделения за 1841 год приводилась следующая оценка лихоимства: «Это язва, поедающая благоденствия нашего Отечества, и общий вопль возносится в сем отношении со всех концов России» [1, c. 235].
Негативные моменты в деятельности государственных и сословных органов и учреждений, а также служащих в них лиц были обусловлены феодальной сущностью государства, кризисными процессами, развивающимися в его недрах, исторически сформировавшейся спецификой функционирования. По поводу последнего не случайно в отчете Третьего Отделения за 1859 год составители подчеркивали: «…и одни только благомыслящие люди чувствуют, сколь трудно искоренить закоснелые недостатки» [1, c. 501].
Массовый характер негативных явлений в деятельности чиновников общественное сознание Российской империи связывало с покровительством первых руководителей губерний. Они вследствие своих личностных качеств считали это допустимым, хотя и были назначены на эти должности лицами, близкими к Императору. Однако в отчете Третьего Отделения за 1840 год указывалось: «…повсюду жалобы эти приводят к заключению, что злоупотребления не могли бы достигать до такой степени наглости и бесстыдства, если бы в начальники губерний избираемы были люди более достойные. По общему мнению, весьма немногие губернаторы соединяют в себе такие качества, и в этом обвиняют вообще особ, близких к Государю Императору, ибо Его Величеству невозможно знать лично во всех отношениях тех, которые предназначаются в начальники губерний. Строгая справедливость требует, однако же, сказать, что мнение сие неосновательно» [1, c. 235].
Вследствие перечисленного закономерно, что в функционировании новых государственных институтов, например, становых приставов (введенных с 1837 года), крайне быстро зарождается и развивается весь спектр негативных явлений.
В отчете Третьего Отделения уже за 1840 год констатируется наличие жалоб на становых приставов, недостижение возлагаемых на них надежд, а также тот факт, что негативное отношение за последствия их деятельности адресуется обществом правительству: «…звание становых приставов есть только прибавление к тем злоупотреблениям, которые происходили от исправников, с тою только разницею, что жалобы на исправников можно было бы относить к вине избиравшему их дворянству, тогда как вопли на становых приставов справедливо укоряют правительство». Составители указывали, что это обусловлено причинами, вытекающими из сущности самого института. Они отмечали: «Цель этого учреждения не подлежит никакому осуждению, но опыты показали, что, независимо от злоупотребления лиц, в самом учреждении находятся недостатки…» и конкретизировали: «…главный недостаток происходит от дурного выбора в становые пристава чиновников и оттого, что им не дано довольно средств исполнять свои обязанности. Быв назначаемы от Короны, в становые пристава определяются люди малоспособные и необразованные, необходимое следствие недостаточного жалования, и единственно по этой причине звания сего не принимают на себя люди хорошие и способные…» [1, c. 235, 236].
В отчете за следующий, 1841 год составители развивали данную тему, сведя ее к масштабности негативных моментов в их деятельности и констатации причин плохого кадрового состава: «Становые пристава, как упомянуто было и в отчете 1840 года, остаются в том же положении — на них жалобы беспрерывные! Долго медлил я доводить положительно до Высочайшего сведения о пристрастных и вредных их действиях, опасаясь, что доходящие до меня слухи не вполне основательны.
…Становые пристава принадлежат к низшему разряду государственных чиновников, содержание их самое ограниченное, а занятия обременительны и неприятны… Ежели вообще трудно найти между чиновниками низшего разряда людей совершенно честных, благородных и усердных, то, конечно, выбор таковых еще более затруднителен для должности становых приставов» [1, c. 263, 264].
Следует заметить, что реализация данной реформы сельской исполнительной полиции и первые шаги нового института вызвали пристальное внимание политической полиции, которое через некоторое время вылилось в относительно объективный перечень ее негативных сторон и их причин, представленный императору.
Проявления и размеры негативных явлений в функционировании государственного механизма, деятельности указанных групп служащих изначально и на протяжении всего исследуемого периода были существенными.
В фондах Третьего Отделения сохранилось, в основном с материалами перлюстрации и доносами, дело за 1826 год «Записки и выписки из писем о злоупотреблениях чиновников в Саратовской губернии» [2].
Подполковник Маслов, следуя к месту службы, 23 августа 1827 года направил рапорт А. Х. Бенкендорфу из г. Симбирска. В нем он писал: «Имею честь довести до сведения Вашего Превосходительства о некоторых злоупотреблениях и беспорядках по Пензенской губернии. Проезжая через губернский город и часть уездных (по пути к месту службы. — В. Р. ), обязанностью себе поставил собрать изложенные в прилагаемой при сей записке сведения». В заключение жандармский офицер, удивленный размерами обнаруженного, констатировал: «Невозможно ожидать, чтобы в губернии, управляемой известным по отличным достоинствам губернатором Г. Лубяновским, могли быть терпимы подобные поступки чиновников и беспорядки, особенно в губернском городе» [2, л. 8, 8 об.].
О существенных размерах негативных явлений в функционировании государственного механизма и отдельных чиновников свидетельствует наличие отдельных дел с регулярными рапортами жандармских офицеров в губернии. К ним, например, относятся «Донесения жандармских офицеров и записки за 1826—1832 гг. о состоянии Казанской губернии — злоупотреблениях чиновников» [3], «Донесения начальника Второго Отделения 5 округа жандармов подполковника Маслова о злоупотреблении чиновников в Саратовской губернии» [4], «Донесения жандармского офицера с 8 августа 1827 года по 26 января 1828 года о злоупотреблениях чиновников в Казанской губернии» [5].
Доказательством этого положения являются и интегрирующие оценки размеров злоупотреблений чиновников (в частности, лихоимства) общероссийского плана, содержащиеся в ежегодных нравственно-политических отчетах Третьего Отделения. Если в 1840 году составители констатировали: «Повсюду слышны жалобы на злоупотребления и лихоимство…», то в следующем году они отметили не только их наличие, но и возрастающую динамику: «В прежние годы слышны были жалобы на лихоимство в присутственных местах, как духовных, так и светских, но никогда жалобы сии не были столь многочисленны, как ныне» [1, c. 235].
В отчете Третьего Отделения за 1846 год составители очередной раз констатировали их существенные размеры: «Хотя нельзя не сознаться, что беспорядки в этом роде (злоупотребления по службе, беспорядки в обществе, различные преступления граждан. — В. Р. ) у нас многочисленны…» [1, c. 398].
Несмотря на борьбу с негативными явлениями в функционировании государственного механизма и злоупотреблениями чиновников, ситуация к концу анализируемого периода оставалась сложной. В отчете Третьего Отделения за 1859 год составители с надеждой и горечью констатировали: «Улучшения по разным отраслям, ими (главными управлениями. — В. Р. ) предпринятые, еще не осуществились, и потому Россия находится в ожидании. Возгласы на злоупотребления и неправосудие бесчисленны…» [1, c. 500].
С начала правления Николая I правящая элита и руководство политической полиции в полной мере осознавали бесперспективность постановки вопроса о полной ликвидации негативных явлений в функционировании государственных, муниципальных, сословных институтов, а также деятельности отдельных их служащих. В нравственно-политическом отчете Третьего Отделения за 1846 год отмечалось, что «…зло никогда совершенно не истребится, как недостаток, сродный всем народам…» [1, c. 398]. Поэтому эффективность противодействия политической полиции данным преступлениям оценивалась уже по наличию только самой тенденции сокращения их количества. В частности, в рапорте к обзорному докладу по окончании года от 3 января 1828 года подполковника Маслова из Симбирска констатировалось уменьшение количества злоупотреблений в губернии [6, c. 40— 45 об.]. После ознакомления с его содержанием руководитель Третьего Отделения написал визу: «Злоупотребления бывали и есть, хорошо когда уменьшаются…» [6, л. 39]. Исходя из этого, в отчете Третьего Отделения за 1859 год составители подчеркивали: «Совершенно уничтожить их едва ли даже возможно, но они могут быть уменьшены» [1, c. 501].
Правящая элита и руководство политической полиции хорошо понимали, что существуют два направления противодействия указанным негативным явлениям.
Первое — превентивные мероприятия, направленные на ликвидацию причин, порож- дающих данные негативные явления, в том числе противоправные.
В отчете Третьего Отделения за 1846 год отмечалось, что позитивные последствия от реализации их могут наступить только по истечении времени («…улучшение в гражданском быту должно ожидать только от времени…»). Какие же меры предлагало принять руководство анализируемого института в своих отчетах Императору за данный период? К ним относились мероприятия общего характера: распространение образования среди населения и совершенствование государственного устройства. В отчете Третьего Отделения за 1846 год констатировалось, что это зависит «…от распространения образования и постепенного усовершенствования государственного благоустройства» [1, c. 398]. Наряду с общими, к ним относились специальные мероприятия, касающиеся непосредственно чиновников, например, принятие мер, направленных на ликвидацию в губерниях недостаточной численности подготовленных чиновников [1, c. 394].
Главное внимание уделялось выработке у чиновников системы нравственных качеств, несовместимых с указанными деяниями, что в конечном счете привело бы к их полной ликвидации. В отчете Третьего Отделения за 1840 год отмечалось: «…искоренение же совершенно злоупотреблений зависит от улучшения нравственного воспитания должностных людей» [1, c. 398].
По мере приближения к реформам появляется новый аспект — требование социально активной позиции от высших сановников, что позволило бы преодолеть бюрократизм и волокиту в решении дел. Понимание значения нового аспекта было пространно изложено в нравственно-политическом отчете Третьего Отделения за 1859 год. Составители его писали: «Для этого (истребления злоупотреблений в администрации. — В. Р. ) необходимо, чтобы главные правительственные лица, поработив свое самолюбие, откинув упорство и свергнув, хотя в некоторой степени, иго формальностей, часто через меру подчиняющее их влиянию лиц, им подведомственных, вникали в сущность общественных потребностей и не теряли слишком много времени на изыскание средств к их удовлетворению. Настоятельное направление их к этой цели, особенно по Министерствам внутренних дел, народного просвещения, юстиции, финансов и по управлению путей сообщения, принесет чувствительную пользу и послужит, с помощью Божьею, к преуспеянию драгоценного нашего Отечества» [1, c. 501].
Второе направление противодействия указанным негативным явлениям включало репрессивные мероприятия — розыск, предварительное судебное расследование или решение дела в административном порядке против лиц, деяния которых включали указанные негативные явления, в том числе противоправные — злоупотребления (лихоимство, мздоимство, превышение должностных обязанностей).
При этом служащие политической полиции подчеркивали, что положительный результат может быть достигнут в результате коллективных усилий различных ведомств и политической полиции. Например, в отчете Третьего Отделения за 1833 год констатируется: «В отношении управления губерний высшее наблюдение и в нынешнем году, по полученным им сведениям, сообщило Министерству внутренних дел о многих беспорядках и злоупотреблениях» [1, c. 105].
Правовой основой борьбы местных подразделений политической полиции с данным преступлением были нормы действующего уголовного законодательства. К началу исследуемого периода развитие этого состава преступления прошло долгий путь. Данное деяние впервые было криминализовано в Судебнике 1497 года, и состав преступления получил развитие в Судебнике 1550 года. Законодатель ХVIII века обращал пристальное внимание на него в Воинском Артикле и ряде специальных императорских указов. Со второй трети ХIХ века он был закреплен в Своде Законов Уголовных, а с 1845 года — в «Уложении уголовном и исправительном».
Руководство государства и первые лица политической полиции вполне понимали, что негативные последствия этого преступления могут перейти из качественных в количественные — при определенных масштабах оно превращается в социальный феномен и становится одной из причин роста социально-политической напряженности, которая может вылиться в конфликт. В отчете Третьего Отделения за 1828 год констатировалось: «Достигшая высокой степени продажность правосудия, проявленное по отношению к некоторым бесстыдным взяточникам покровительство, оказанные некоторым состоятельным людям льготы, усилившийся в отсутствие Императора деспотизм министров, наконец, испытываемые всеми тяготы общего обеднения и плохое состояние внутренней торговли… все эти затруднения располагали умы к недовольству и как бы давали возможность относиться с доверием к злостной болтовне фрондирующих» [1, c. 105].
Ярким примером являются взятки, процветавшие в одном из ведомств. Еще 1 сентября
1842 года руководству 6 жандармского округа поступило из Третьего Отделения предписание «О имении наблюдения за злоупотреблениями находящихся в губерниях по службе офицерами и чиновниками главного управления путей сообщения и публичных зданий». Реализация его через три месяца не дала никаких положительных результатов [7, л. 5 об.]. Через десять лет в своем дневнике 21 марта 1852 года Л. В. Дубельт констатировал описанную выше тенденцию. Рабочие при Московской железной дороге постоянно жалуются, что связано с вымогательством взяток офицерами путей сообщения у подрядчиков, «…между тем рабочий народ остается без удовлетворения. Вопиют на этих офицеров, называют их грабителями, а они между тем указывают, как роскошно они живут, какие у них экипажи, лошади, вина» [8, c. 164].
Заметим, что социально активная часть населения жаловалась на противозаконные действия государственных служащих их непосредственному руководству и выше по инстанциям. В частности, штаб-офицер в Казанской губернии с 21 января по конец февраля 1850 года участвовал в рассмотрении жалобы мамадышского мещанина Албанова на противозаконные действия станового пристава Чернышева [9, л. 1].
К моменту образования местных подразделений политической полиции указанное противоправное деяние имело широкое распространение, и на динамике его мало отразился новый внутриполитический курс. В отчете Третьего Отделения за 1827 год отмечалось, что за последние два года «…взяточничество не прекращалось» [1, c. 25].
Существовали различные механизмы получения взяток. Один, самый распространенный, — прямой. Другой механизм — опосредованный — был воспроизведен в «Записке о злоупотреблениях в Пензенской губернии», направленной 15 августа 1827 года Шефу жандармов подполковником Яновым. В частности, сообщалось, что гражданский губернатор Лубеновский берет их через правителя своей канцелярии Скретнева. Однако никакой реакции на рапорт, если судить по отсутствию визы, не последовало [10, л. 4].
Взяткополучателями выступали должностные лица, служащие в государственных и сословных, светских и духовных органах и учреждениях различных уровней. Они проходили службу в органах центрального управления. В отчете Третьего Отделения за 1829 год констатировалось в отношении главного управления водных и сухопутных сообщений: «Все единодушно сходятся на том, что… взяточничество — там обычное явление…» [1, c. 34]. Взяточники служили и в органах, лежащих в основании государственного управления. В рапорте от 20 сентября 1827 года подполковника Маслова по Симбирской губернии и донесении среди прочего указывается на взятки, получаемые от казенных крестьян уездными чиновниками [6, л. 10—12 об.].
Социальный статус взяточников также существенно различался по должности, классности, органу или учреждению прохождения службы.
Взятки получали, по информации, предоставляемой Третьим Отделением Императору, не только гражданские чиновники, но и военнослужащие — офицеры и военные чиновники [1, c. 59, 136, 137 и др.]. Примером являются факты, в предварительном расследовании которых участвовал штаб-офицер в Пензенской губернии в 1860—1861 гг. «О… лихоимстве двух городничих той же губернии» [11, л. 4].
В условиях феодального государства, яркой специфики культуры вообще и правовой в частности, наличия крепостного права взяткодателями была вынуждена выступать подавляющая часть населения.
Управляющие помещичьими имениями были вынуждены давать взятки даже самым низшим чиновникам в уездах. В 7 жандармском округе с 27 апреля по 6 августа 1850 года штаб-офицер в Казанской губернии производил предварительное расследование по делу «О противозаконных подарках, делаемых вотчиннона-чальниками разных помещичьих имений чиновникам Васильсурского земского уездного суда» [11, л. 3]. Нет сомнения, что средства на подарки собирались прямым или косвенным образом из доходов, получаемых крестьянами, сокращая и без того низкую их покупательную способность, т. е. сужая рынок.
Офицеры путей сообщения на Московской железной дороге, указывал 21 марта 1852 года Л. В. Дубельт, вымогают подношения у предпринимателей: «Беспрерывно получаются сведения… что офицеры не выдают подрядчикам квитанций без того, чтобы не заплатить им за выдачу оных. Требования их иногда так неумеренны, что подрядчики не в состоянии исполнить оных, и поэтому квитанции выдаются по прошествии многого времени…» [8, c. 164].
Заметим, что одним из последствий взяточничества был явный вред, наносимый развивающимся капиталистическим отношениям.
Политическая полиция получала информацию о совершении данных преступлений различными методами.
Жандармские офицеры лично осуществляли сбор информации всеми возможными путями: из услышанных разговоров и другими способами. Уже в первом (!) донесении с начала службы в августе 1827 года подполковник Маслов сообщал Шефу жандармов о поборах и взятках в Пензенской и Симбирской губерниях [10, л. 4].
Особое место занимали социально активные подданные. В частности, советник саратовской палаты государственных имуществ Васильев выразил официальный протест по противозаконной сделке управляющего палатою Силича с полицмейстером Поздняком при постройке (поставках. — В. Р. ) в селах пожарных инструментов [11, л. 2].
В отчете Третьего Отделения за 1840 год констатируется: «Жалобы на это (становых приставов. — В. Р. ) столь общи, что необходимо надлежало собрать ближайшие сведения как о настоящих недостатках, так и о средствах к улучшению сего учреждения. Из сведений, доставленных Министерством внутренних дел, гражданскими губернаторами, предводителями дворянства и жандармскими штаб-офицерами, видно…» [1, c. 235].
Особым методом получения информации была перлюстрация. В фондах Третьего Отделения сохранились целые дела с выписками из писем о взятках, в частности, с 29 декабря 1859 года по 18 ноября 1867 года [12].
Информация по фактам злоупотреблений жандармскими офицерами в основном непосредственно доводилась до первых лиц губерний для оперативного принятия мер. В частности, министр внутренних дел тайный советник Блудов в конце августа 1828 года довел до сведения А. Х. Бенкендорфа, по представлению симбирского гражданского губернатора, что жандармский подполковник Неклюдов «…действия-ми своими весьма много способствовал ему к преследованию и отвращению разных злоупотреблений и доставлял как по разным частным случаям, так и в особенности об образе жизни и поведении чиновников весьма полезные для губернского начальства сведения» [13, л. 118 об., 119].
Однако в ряде случаев, когда руководители губернии не желали получать подобную информацию, умышленно разглашали ее источник либо сами являлись ее фигурантами, а также если факты могли вызвать негативные массовые социально-политические последствия, то сведения оперативно доводились до ведения монарха и руководителей министерств, главных управлений и одновременно направлялись руководителям регионов для проведения предварительного расследования и принятия мер. В частности, А. Х. Бенкендорф направил 29 июля 1831 года секретное отношение исполняющему должность казанского гражданского губернатора при частной записке с просьбой уведомить его для доклада Государю, «в какой мере справедливы означенные в оной обстоятельства». В заявлении 367 крестьян с. Покровское Козмодемьянского уезда констатировалось, что волостной писарь берет взятки с крестьян за выдачу паспортных билетов 40 и 50 копеек, а если они приходят к нему с просьбою или жалобой без подарка, то даже не слушает» [13, л. 3].
Противодействие данному преступлению со стороны политической полиции не встречало активной поддержки со стороны подавляющей массы чиновников и руководителей подразделений, в которых служили взяточники. Последнее было обусловлено двумя моментами: стремлением сохранить «честь мундира» и, очевидно, корыстными интересами — личной заинтересованностью в их наличии.
В предписании Шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа начальнику Третьего Отделения 5 округа Корпуса жандармов полковнику Языкову от 4 апреля 1828 года указывалось, что майор Корпуса жандармов Бахметьев представил ему записку о притеснениях его со стороны губернского начальства Нижегородской губернии, копию которой он высылает и просит наблюдать за ходом этого дела и, «заметив по оному какие-либо противозаконные действия, уведомлять меня об этом» [14, л. 1].
Дубельт Л. В. 21 марта 1852 года приводил один из примеров: «Беспрерывно получаются сведения, что офицеры путей сообщения бессовестно пользуются незаконными доходами при Московской железной дороге… Графу Клейми-хелю несколько раз об этом докладывали, и он всегда отвечал “Докажите!ˮ» [8, c. 164].
Особо необходимо обратить внимание, что данное негативное явление затронуло и служащих политической полиции или по крайней мере они обвинялись в этом общественным мнением.
Ранее нами было уделено внимание управляющему Третьим Отделением, начальнику Штаба Корпуса Л. В. Дубельту, еще при жизни неоднократно обвиненному в получении взяток, а также офицеру в Саратовской губернии Никулину. Наследник престола Александр II в своем письме отцу о положении удельных крестьян в Симбирской губернии отмечал, что по губернии ходят слухи о причинах написания рапорта об их плохом положении жандармским офицером Стоговым — подкуп его местным откупщиком.
Составители ежегодных отчетов Третьего Отделения после замечания Николая I были вынуждены обратить внимание и на периодическое возникновение проблемы внутри Корпуса жандармов. В случае неоспоримых доказательств она решалась через исключение указанных лиц из состава Корпуса, однако руководство его было явно не заинтересовано в увольнении по данному основанию.
Однако было бы ошибочным считать, что противодействие данному составу преступления со стороны Российского государства, в частности политической полиции, не имело вообще каких-либо позитивных последствий. Например, в отчете Третьего Отделения за 1840 год констатировалось: «Главное начальство напрягает все свои усилия к искоренению лихоимства между мелкими их подчиненными, и по возможности их усилия увенчиваются успехом, ибо ежели зло сие и существует, то далеко не в такой степени, как бывало прежде, когда сами начальники были причастны к сему пороку. Здесь более, нежели где-нибудь, видна вся польза бдительного наблюдения, производящая очевидную боязнь между мелкими чиновниками, боязнь сия делает их осторожными, а это уже есть выигрыш…» [1, c. 235].
К противоправным деяниям, с которыми политической полиции приходилось вести борьбу, относились также поборы и притеснения.
Конечно, самыми беззащитными перед злоупотреблениями чиновников были крестьяне, в первую очередь удельные и государственные. Частновладельческих крестьян в определенной мере ограждал от этого лично заинтересованный помещик, а последние две группы непосредственно управлялись ими, то есть находились в их власти.
Злоупотребления в отношении удельных и государственных крестьян не ограничивались взятками, они принимали форму открытых поборов под различными предлогами (вымогательства) и всевозможных притеснений. Приведем один из многочисленных примеров. А. Х. Бенкендорф направил 29 июля 1831 года секретное отношение исполняющему должность казанского гражданского губернатора с жалобой и просьбой уведомить его для доклада Государю, «в какой мере справедливы означенные в оной обстоятельства». В жалобе, поданной от 367 жителей с. Покровское Козмодемьянского уезда, изложенной на трех листах, содержались следующие факты:
«1. При казенной недоимке на второе полугодие 1830 года в 1 тысячу рублей с них было собрано подушной подати по 12 рублей вместо 7 рублей и еще 50 копеек, которые старостой вообще не занесены в учетную книгу. Последнюю забрало волостное правление, в котором некоторые цифры замарали, и ее обратно даже не возвращают…
-
3. Ежегодно осенью в селе бывают ярмарки, куда приезжают члены земского суда, исправник Чернорутский с гостями и, занимая 10 квартир, живут в течение недели за счет мирских денег (расходы около 300 рублей). В частности, капусту члены земского суда покупают на крестьянский счет и отвозят по собственным домам, так как продавцы ее приезжают из Нижнего Новгорода.
-
4. Перед Масленицей исправник и члены земского суда берут две подводы и бесплатно едут на базар в одно из сел Нижегородской губернии» [15, л. 1, 2, 3].
Политическая полиция имела широкую нормативную базу для противодействия данным деяниям, которая представляла собой включающую основную их массу совокупность проступков и преступлений, содержащихся с 1832 года в Своде Законов Уголовных, а с 1845 года — в «Уложении уголовном и исправительном».
Особенно отличались на этом поприще исправники, а с 1837 года — становые приставы. В отчете Третьего Отделения за 1841 год А. Х. Бенкендорф объяснял императору свое внимание к данной проблеме и констатировал причины, широкие масштабы их противоправных деяний: «Становые пристава… на них жалобы беспрерывные!.. Так как влияние становых приставов обращено преимущественно на крестьян, то есть на класс самый трудолюбивый и полезный, а вместе с тем по положению своему и необразованности самый беззащитный против злоупотребления власти, то я и не осмелился более умалчивать, что жалобы крестьян и помещиков на притеснительные и корыстолюбивые действия становых приставов сделались почти всеобщими…
В эту должность поступают только такие люди, которые по неспособности или по другим, не в их пользу клонящимся обстоятельствам, не могут приискать себе лучшей службы или которые, будучи движимы корыстолюбием, стремятся к обогащению себя чрез притеснение крестьян» [1, c. 263].
Реформа государственных крестьян, проведенная Кисилевым, по оценке руководства политической полиции, первоначально не только улучшила, а еще более ухудшила ситуацию по анализируемому аспекту.
В отчете Третьего Отделения за 1842 год составители констатировали: «При передаче государственных крестьян из ведения Казенных палат в управление палат Государственных имуществ недостатки, ошибки и даже злоупотребления прежней администрации обнажились пред новою во всей своей наготе. Казалось, что этот важный переворот произведет благие последствия, но ожидания не сбылись, и вместо существенных и необходимых улучшений крестьянского быта в нем произведено то пагубное брожение, которое неоднократно проявлялось даже в мятежах и бунтах».
В частности, составители отчета следующим образом описывали результаты реформы по отношению к анализируемым злоупотреблениям чиновников: «…Теперь остается решить — улучшилось их положение с учреждением над ними нового управления? Этот вопрос разрешили сами крестьяне. Беспокойство, возникшее в прошедшем году между ними в Олонецкой, Вятской, Пермской, Казанской и Московской губерниях, имело два главных повода: притеснения и поборы чиновников Государственных имуществ и желание остаться по-старому под ведением земской полиции, которая если не более заботилась о благе крестьян, то по крайней мере не так дорого им стоила, ибо прежде целый уезд жертвовал для одного исправника и двух или трех заседателей, а ныне за счет крестьян живут десятки чиновников» [1, c. 298].
Далее авторы, развивая данную мысль, приходят к выводу о ярко выраженной социальной опасности исследуемых деяний чиновников палат Государственных имуществ и необходимости сокращения их численности: «Таковые же беспокойства (как в Лифляндии в 1842 году. — В. Р. ) возникали и внутри России (в Казанской, Вятской, Пермской губерниях при их подавлении было даже применено огнестрельное оружие. — В. Р. ). Все сии беспорядки произошли… в особенности от злоупотреблений многих служащих в этом ведомстве лиц. Причины сии не могли не сделаться известными публике и утвердили в ней единодушное желание, чтобы правительство не только не увеличивало, но старалось бы, по возможности, уменьшить число этого рода чиновников» [1, c. 292, 293].
Однако не только государственные чиновники, но и служащие сословного самоуправления были причастны к поборам и притеснениям. В отчете Третьего Отделения констатировалось: «Возмущение казенных крестьян произошло в 1843 году в 8-ми губерниях… Оренбургской, Пермской, Казанской… и Симбирской (в трех дело дошло до вооруженного сопротивления властям. — В. Р.)… Поводом к таковым беспокойствам со стороны казенных крестьян были притеснения и поборы волостного начальства…» [1, c. 322, 323]. Это убедительно свидетельствовало о наличии глубинных причин указанных негативных явлений, которые коренились в системе существующих общественных отношений, и, как следствие, об ограниченной эффективности любых мер по противодействию им.
Третье Отделение достаточно объективно оценивало ситуацию на фронте борьбы с поборами и притеснениями чиновников. В его отчете уже за 1843 год справедливо констатировалось, что Министерство Государственных имуществ продолжало реформу и добилось в исследуемом направлении некоторых позитивных сдвигов. В частности, отмечалось, что продолжилась реализация мер по улучшению быта казенных крестьян, но одновременно слышен ропот на некоторые неудобства нового порядка и сохранились притеснения со стороны чиновников, управляющих ими: «Министерство не оставляет жалоб сих без внимания, виновных немедленно удаляет от службы, и справедливость требует сказать, что этот ропот и жалобы слышны были далеко в меньшей степени, нежели в предшествовавших годах» [1, c. 331].
Посягательства на различные виды материальных благ, составляющих государственную собственность, впервые нашли широкое распространение с начала ХVIII века. Почти одновременно государство начало активную борьбу с его проявлениями по различным направлениям, в частности, оно формирует нормативную базу противодействия казнокрадству. Однако противостояние государства лицам, совершающим указанные деяния, даже в первой четверти ХIХ века не было эффективным и поэтому неслучайно изначально попало в сферу функционирования местных подразделений Корпуса жандармов.
Российское уголовное право 1826—1860 гг. содержало ряд составов преступлений, которые были направлены на охрану различных видов материальных благ, собственником которых выступало отечественное государство. Они выступали нормативно-правовой базой противодействия различным проявлениям указанных деяний служащими политической полиции Российской империи.
Причины, порождающие казнокрадство, хорошо осознавались служащими политической полиции.
Одной из причин являлся сложившийся механизм закупок материальных ценностей, рас- пределения подрядов для государственных нужд, в частности армии. По полученной от жандармского офицера в губернии информации Л. В. Дубельт 5 ноября 1852 года записал: «По достоверным известиям дознано, что Нижегородскому драгунскому полку дают справочные цены: на четверть овса по 37, а на пуд сена по 25 копеек. Покупает же полковой командир овес по 27, а сено по 8 копеек и от этого имеет он ежегодную выгоду до 80 тысяч рублей серебром». В заключение один из руководителей института по борьбе со злоупотреблениями чиновников, зная эти вопиющие факты, только бессильно констатирует: «Ужасно и удивительно, как правительство не обратит на это внимания» [8, c. 190].
Данные деяния порождались несовершенной системой финансовой отчетности. Например, в январе 1832 года флигель-адъютант капитан 1 ранга Казарский во время осмотра больницы уездного города Петровска Пензенской губернии выявил, что в финансовой книге последняя запись была внесена в апреле 1831 года. Несмотря на то что по высочайшему докладу А. Х. Бенкендорфа Николай I прореагировал жестко («чтобы с виновных было немедленно и строго взыскано»), причины, породившие явление, сохранялись, а следовательно, в других учреждениях могло повториться подобное [15, л. 6—8].
Описанные противоправные деяния возникали, так как отсутствовал документированный и детальный контроль со стороны вышестоящих инстанций за расходованием финансовых средств на государственные нужды. Исторически сложилось, что любая попытка контроля со стороны руководства рассматривалась сановниками как проявление недоверия и в определенной мере оскорбление сановника. В частности, Л. В. Дубельт 4 апреля 1852 года записал: «Государь Император изволил потребовать от графа Клеймихеля контракты, которые заключены для сооружения железной дороги в Варшаву. Граф Клеймихель этим огорчился и говорит, что потерял доверенность Его Величества» [8, c. 168].
Формы проявления казнокрадства были самыми различными: от открытого хищения государственных материальных или финансовых средств до различного рода завуалированных.
Анализ фондов подразделений политической полиции систематически выявляет материалы, связанные с разоблачением, розыском должностных лиц, растративших либо похитивших государственные финансовые средства.
Однако встречаются и другие формы совершения данного преступления. 8 января 1841 года подполковник Панютин доносил руководству 6 жандармского округа о злоупотреблениях поручика Корпуса лесничих Наумова в отводе леса для рубки крестьянами государственных иму-ществ. После трехмесячной проверки 13 марта данный рапорт был отправлен Шефу жандармов.
14 января 1860 года Саратовский штаб-офицер донес рапортом в Дежурство 7 округа «О лихоимстве управляющего Саратовскою палатой Государственных имуществ Силича в противозаконной сделке с полицмейстером Поздня-ком при постройке (поставках. — В. Р. ) в селах пожарных инструментов…» [16, л. 2, 3].
Масштабы казнокрадства в начале анализируемого периода были большими. В одном из первых отчетов Третьего Отделения за 1829 год констатировалось о Главном управлении водных и сухопутных сообщений: «Все единодушно сходятся на том, что управление этой отраслью государственного хозяйства находится в самом скверном состоянии. Лихоимство… — там обычные явления…» [1, c. 34]. К сожалению, несмотря на все принятые Российским государством, в частности политической полицией, меры, и к концу периода не удалось достичь желаемых результатов.
В своем дневнике Л. В. Дубельт 19 февраля 1852 года писал: «Граф Кисилев в таком раздражительном состоянии, что ему не смеют докладывать о делах. По случаю больших неисправностей и хищений по лесной части он очень недоволен товарищем своим Гамалеем» [8, c. 199].
Подобного рода противоправные деяния затронули представителей самых различных социальных слоев. Штаб-офицер в Пензенской губернии в 1860—1861 гг. участвовал в предварительном расследовании дела «О злоупотреблениях в 16 пехотной дивизии в Пензенской губернии…» [11, л. 4]. В перлюстрированном письме за 1860 год, отправленном в Третье Отделение, описывается казнокрадство предводителя дворян Бестужева [17]. Управляющий Третьим Отделением Л. В. Дубельт 3 февраля 1853 года писал в дневнике о том, что «…на станциях смотрители часто выдают пассажирам фальшивые билеты» [8, c. 197].
Сформировались и продолжительное время функционировали механизмы реализации указанного рода преступлений. Например, Л. В. Дубельт 12 декабря 1854 года подробно описал один из них: «В Саратовской губернии в посадке Дубовка есть артиллерии подполковник Нечаев. Он обыкновенно отправляет снаряды в Кавказ- ский корпус и для этого делает торги. Обыкновенная цена за перевозку существует 40 копеек серебром с пуда. Нечаев вот как действует: он обыкновенно дает подрядчикам по 20 копеек серебром с пуда за то, чтобы они отказывались от торгов, тогда доносит. Что приискал возчиков за 1 рубль 75 копеек серебром, но по своему усердию берет перевозку на себя за 1 рубль с пуда, а казне делает выгоду по 75 копеек серебром с пуда. Правительство его благодарит, а между тем он взял себе чистой прибыли по 40 копеек серебром с пуда» [1, c. 266]. Детальное знание руководством политической полиции механизмов и фактов совершения анализируемых преступлений свидетельствует об эффективной деятельности их подчиненных в регионах.
Отсутствие принятых мер по многим из доходящих до правящей элиты фактам свидетельствует о реальном нежелании последней осуществлять реальное противодействие указанным деяниям. Возможно, они рассматривались руководством страны как еще один способ перераспределения материальных благ в пользу беднеющей верхушки чиновников и офицеров. Поэтому в отчете Третьего Отделения за 1828 год отмечалось, что «с нетерпением ожидается принятие некоторых суровых мер против хищений и продажности в судах» [1, c. 34].
Однако руководство политической полиции именно на примере данной сферы понимало реальную роль института в механизме функционирования абсолютистского государства. Император видел ее в противодействии злоупотреблениям тех групп и лиц, каких он посчитает нужным и в которые изначально не могли входить сановники. Кроме того, и уголовное право разрешало привлечь за должностное преступление к ответственности чиновника только с согласия вышестоящего начальника, назначившего его на должность. Закономерно, что руководство политической полиции не могло даже поставить вопрос об этом перед императором. Поэтому в отчетах Третьего Отделения с определенного времени мы не найдем критики по многочисленным слухам и реально изобличенного в злоупотреблениях любимца императора Клеймихеля. Для Российского государства и общества вынужденное лавирование политической полиции в условиях отечественного абсолютизма имело самые негативные последствия. 25 октября 1856 года знающий всю многолетнюю подоплеку происходящего Л. В. Дубельт с удовольствием констатировал: «Граф Клеймихель отвечал Его Величест- ву, что по его расстроенному здоровью не может более управлять путями сообщения, просил об увольнении его от этой должности. Вследствие чего 15 октября он уволен. Известие об увольнении графа Клеймихеля было принято с радостью не только его подчиненными, но и даже публикой. Не помню, чтобы кто-нибудь заслужил такой общей ненависти!» [8, c. 293].
-
1. «Россия под надзором»: отчеты III отделения 1827—1869 : сб. док. / сост. М. Сидорова, Е. Щербакова. М. : Рос. фонд культуры : Российский Архив, 2006. 706 с.
-
2. Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1295.
-
3. ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1171.
-
4. ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д.1296.
-
5. ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д.1172.
-
6. ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д.1318.
-
7. ГАРФ. Ф. 1174. Оп. 1. Д. 635.
-
8. Заметки и дневники Л. В. Дубельта // Российский архив. М. : Студия «ТРИТЭ» (Михалков), 2005. Вып. 14. С. 111—334.
-
9. ГАРФ. Ф. 1174. Оп. 1. Д. 643.
-
10. ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1229.
-
11. ГАРФ. Ф. 1174. Оп. 1. Д. 653.
-
12. ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1297.
-
13. ГАРФ. Ф. 1174. Оп. 1. Д. 120.
-
14. ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 (1828 г.). Д. 170.
-
15. Национальный архив Республики Татарстан. Оп. 1. Д. 255.
-
16. ГАРФ. Ф. 1174. Оп. 1. Д. 630.
-
17. ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1319.
Список литературы Противодействие местных подразделений корпуса жандармов политической полиции должностным проступкам и преступлениями в Российской империи в 1826-1860 гг.
- «Россия под надзором»: отчеты III отделения 1827-1869: сб. док./сост. М. Сидорова, Е. Щербакова. М.: Рос. фонд культуры: Российский Архив, 2006. 706 с.
- Государственный архив Российской Федерации (далее -ГАРФ). Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1295.
- ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1171.
- ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1296.
- ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1172.
- ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1318.
- ГАРФ. Ф. 1174. Оп. 1. Д. 635.
- Заметки и дневники Л. В. Дубельта//Российский архив. М.: Студия «ТРИТЭ» (Михалков), 2005. Вып. 14. С. 111-334.
- ГАРФ. Ф. 1174. Оп. 1. Д. 643.
- ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1229.
- ГАРФ. Ф. 1174. Оп. 1. Д. 653.
- ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1297.
- ГАРФ. Ф. 1174. Оп. 1. Д. 120.
- ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 (1828 г.). Д. 170.
- Национальный архив Республики Татарстан. Оп. 1. Д. 255.
- ГАРФ. Ф. 1174. Оп. 1. Д. 630.
- ГАРФ. Ф. 109. С/А. Оп. 3. Д. 1319.